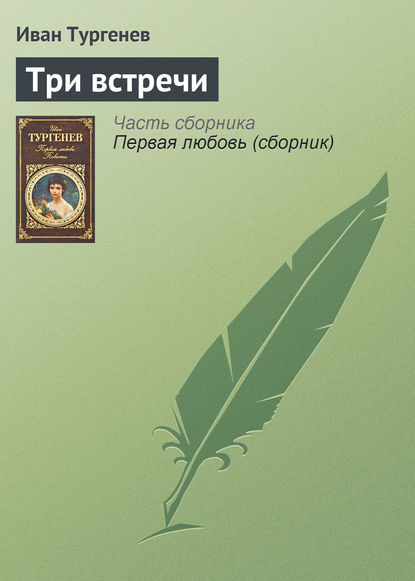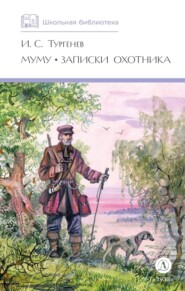По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три встречи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, извольте, – возразил он наконец, достал ключ и неохотно отпер дверь.
Я заглянул в кладовую. В ней действительно не было ничего замечательного. На стенах висели старые портреты с мрачными, почти черными лицами и злыми глазами. На полу валялся всякий хлам.
– Ну, насмотрелись? – угрюмо спросил меня Лукьяныч.
– Да, спасибо! – торопливо возразил я.
Он захлопнул дверь. Я вышел в переднюю, а из передней на двор.
Лукьяныч проводил меня, пробормотал: «Прощенья просим-с», – и пошел в свой флигелек.
– А какая это у вас госпожа вчера гостила? – крикнул я ему вслед. – Я ее сегодня встретил в роще!
Я надеялся озадачить его моим внезапным вопросом, вызвать необдуманный ответ. Но старик только глухо засмеялся и, уходя к себе, хлопнул дверью.
Я отправился назад в Глинное. Мне было неловко, как пристыженному мальчику.
«Нет, – сказал я самому себе, – видно, мне не добиться разрешения этой загадки. Бог с ней! Не стану больше думать обо всем этом».
Через час я уже ехал домой, рассерженный и раздраженный.
Прошла неделя. Как ни старался я отгонять от себя прочь воспоминание о незнакомке, о ее спутнике, о моих встречах с ними, оно то и дело возвращалось и приставало ко мне со всей докучной настойчивостью послеобеденной мухи… Лукьяныч, с своими таинственными взглядами и сдержанными речами, с своей холодно-печальной улыбкой, тоже беспрестанно приходил мне на память. Самый дом, когда я вспоминал о нем, самый тот дом, казалось, хитро и тупо поглядывал на меня сквозь свои полузакрытые ставни и как будто поддразнивал меня, как будто говорил мне: а все же ты ничего не узнаешь! Я наконец не выдержал и в один прекрасный день поехал в Глинное, а из Глинного отправился пешком… куда? читатель легко догадается.
Я должен сознаться, что, подходя к таинственной усадьбе, я чувствовал довольно сильное волненье. В наружности дома не произошло никакой перемены: те же закрытые окна, тот же унылый и осиротелый вид; только на лавочке, перед флигелем, вместо старика Лукьяныча сидел какой-то молодой дворовый парень лет двадцати, в длинном нанковом кафтане и красной рубахе. Он сидел, положив на ладонь кудрявую голову, и дремал, изредка покачиваясь и вздрагивая.
– Здравствуй, брат! – промолвил я громко.
Он тотчас вскочил и выпучил на меня свои оторопелые глаза.
– Здравствуй, брат! – повторил я, – а где старик?
– Какой старик? – медленно проговорил малый.
– Лукьяныч.
– А, Лукьяныч! – Он глянул в сторону. – Вам Лукьяныча надо?
– Да, Лукьяныча. Что он, дома?
– Н-нет, – произнес малый с расстановкой, – он того… как бы вам… того… сказать…
– Нездоров он, что ли?
– Нет.
– Так что же?
– Да его совсем нет.
– Как нет?
– Так. С ним такое… недоброе приключилось.
– Он умер? – спросил я с изумлением.
– Удавился.
– Удавился! – с испугом воскликнул я и всплеснул руками.
Мы оба молча посмотрели в глаза друг другу.
– Давно ли? – проговорил я наконец.
– Да вот пятый день сегодня. Вчера его хоронили.
– Да отчего он это удавился?
– Господь его знает. Человек он был вольный, на жалованье; нужды ни в чем не знал, господа его как родного ласкали. Ведь у нас господа – дай бог им здоровья! Просто ума не приложишь, что с ним такое подеялось. Знать, лукавый попутал.
– Да как это он сделал?
– Да так. Взял да удавился.
– И ничего прежде в нем не замечали?
– Как вам сказать… Особенного этакого, чтобы… ничего. Он всегда скучный такой был, сумнительный человек. Закряхтит, закряхтит, бывало. Скучно, дескать, мне. Ну, да ведь уж лета его какие были. В последнее время он точно что-то задумываться начал. Придет, бывало, к нам на деревню; я-то ему племянником довожусь: «Что, брат Вася, скажет, приди-ка, брат, переночуй-ка у меня!» – «А что, дяденька?» – «Да так, страшно что-то; скучно одному», ну и пойдешь к нему. Бывало, выдет на двор, посмотрит, посмотрит этак на дом, закачает, закачает головой, да как вздохнет… Перед самой той ночью, как ему то есть жизнь покончить, он тоже пришел к нам, позвал меня. Ну, я и пошел. Вот пришли мы к нему во флигелек, посидел он маленько на лавочке, встал, да и вышел. Я жду, – что, мол, долго он не идет, вышел на двор, крикнул: «Дяденька! а, дядя?» Не откликается дяденька. Я думаю: куда, мол, он это пошел, не в дом ли? да и пошел в дом. Уж смеркаться начинало. Вот прохожу я мимо кладовой, слышу, скребет там что-то за дверью; я взял да дверь и отворил; глядь, а он там сидит, прикорнул под окном. «Что, мол, говорю, дяденька, вы тут делаете?» А он как обернется да как гикнег на меня, а глаза-то у него такие быстрые, быстрые, так и горят, как у кота. «Что тебе? Разве не видишь – бреюсь?» И голос такой хриплый. У меня вдруг волосы так дыбом и поднялись, и, сам не знаю отчего, так мне страшно стало… знать, о ту пору бесы-то его уж обступили. «Впотьмах-то», – говорю я, а у самого так колени и дрожат. «Ну, говорит, хорошо, ступай». Я пошел, и он из кладовой вышел и дверь на замок запер. Вот пришли мы опять во флигелек, страх с меня тотчас и соскочил. «Что, мол, говорю я, дяденька, ты в кладовой делал?» Он так и всполохнулся. «А ты молчи, говорит, молчи!» – да и полез на лежанку. «Ну, – думаю я, – лучше не стану я с ним заговаривать: вишь, он сегодня что-то того, нездоров, должно быть». Вот я взял да и лег тоже на лежанку. А ночник горит в углу. Вот лежу я, и так, знаете, дремится мне… вдруг, слышу, дверь тихонько скрип… да и отворилась… так, немножко. А дяденька-то к двери спиной лежал, да и на ухо он всегда, вы, может, припомните, туг бывал. А тут как вскочит вдруг… «Кто меня зовет, а? кто? за мной пришел, за мной!» – да без шапки на двор… Я подумал: «Что с ним это?» – да, грешный человек, тут же и заснул. На другое утро просыпаюсь… нет Лукьяныча. Вышел из комнатки, стал его кликать – нету нигде. Спрашиваю у сторожа: «Не видал, мол, не выходил дяденька?» – «Нет, говорит, не видал». – «Что, брат, говорю, нет его что-то…» – «Ой!» Мы так оба и струхнули. «Пойдем, говорю, Федосеич, пойдем, говорю, посмотрим, нет ли его в доме». – «Пойдем, говорит, Василий Тимофеич», а сам бел, как глина. Пошли мы в дом… стал я проходить мимо кладовой, да как глянул, а замок-то висит на пробое открытый, я толк в дверь, а дверь-то изнутри заперта… Федосеич тотчас обежал кругом, посмотрел в окно. «Василий Тимофеич! кричит, ноги висят, ноги!..» Я к окну. А ноги-то это его, Лукьянычевы ноги. Так посереди комнаты и повесился… Ну, послали за судом… Сняли его с веревки: двенадцатью узлами завязана была веревка.
– Ну, что же суд?
– Да что суд? Ничего. Подумали, подумали, какая может быть причина? Нет никакой причины. Так и решили, что, должно полагать, не в своем был уме. У него ж в последнее время голова болела, часто все головой жаловался…
Я еще около получаса потолковал с малым и ушел наконец в совершенном смущении. Признаюсь, я не мог без тайного, суеверного страха смотреть на этот дряхлый дом… Через месяц я уехал из деревни; и понемногу все эти ужасы, эти таинственные встречи вышли у меня из головы.
II
Прошло три года. Большую часть этого времени я провел в Петербурге да за границей, и если когда я и заезжал к себе в деревню, то не более как на несколько дней, так что мне ни разу не пришлось побывать ни в Глинном, ни в Михайловском. Ни красавицу мою я не видал нигде, ни того мужчину. Однажды, на исходе третьего года, в Москве, мне случилось встретиться с г-жою Шлыковой и ее сестрицей, Пелагеей Бадаевой, – с той самой Пелагеей, которую я, грешный человек, до тех пор считал вымышленным лицом, – на вечере у одной моей знакомой. Обе дамы были уже не молодых лет и довольно приятной наружности; разговор их отличался умом и веселостью: они много путешествовали, и путешествовали с пользой; в обращении их замечалась непринужденная веселость. Но между моей незнакомкой и ими не было решительно ничего общего. Меня представили им. Мы с г-жою Шлыковой разговорились (сестрицу ее занимал какой-то заезжий геолог). Я объявил ей, что имею удовольствие быть ее соседом по …му уезду.
– А! у меня там точно есть небольшое именье, – заметила она, – возле Глинного.
– Как же, как же, – возразил я, – я знаю ваше Михайловское. Вы там бываете?
– Я? редко.
– Три года тому назад были?
– Постойте! кажется, была. Да, была, точно.
– С сестрицей вашей или одни?