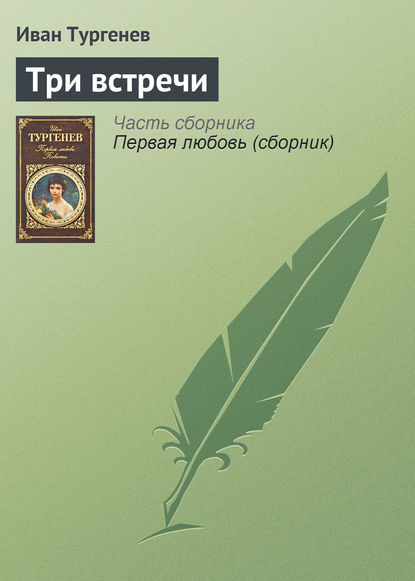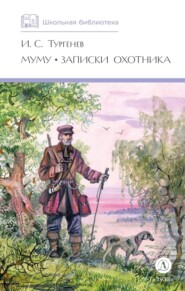По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три встречи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я очень хорошо понимал, что мне следовало воспользоваться отличным началом, идти далее, что мои повторения «я все знаю, уж я знаю» становились смешными, – но мое волнение было так велико, эта неожиданная встреча до того меня смутила, я так потерялся, что решительно не умел сказать ничего другого. Притом же я действительно больше ничего и не знал. Я чувствовал, что я глупею, чувствовал, что я из таинственного, всеведущего существа, каким я сперва ей должен был показаться, быстро превращаюсь в какого-то ухмыляющегося дурачка… но делать было нечего.
– Да, я все знаю, – пробормотал я еще раз.
Она взглянула на меня, проворно встала и хотела удалиться.
Но это было бы слишком жестоко. Я ее схватил за руку.
– Ради бога, – начал я, – сядьте, выслушайте меня…
Она подумала и села.
– Я вам сейчас говорил, – продолжал я с жаром, – что я все знаю, – это вздор. Я ничего не знаю, решительно ничего: я не знаю ни кто вы, ни кто он, и если я мог вас удивить тем, что я сказал вам сейчас у колонны, то припишите это одному случаю, странному, непонятному случаю, который, как будто на смех, два раза и почти одинаковым образом сталкивал меня с вами, делал меня невольным свидетелем того, что, может быть, вы бы желали сохранить в тайне…
И я тут же, нисколько не обинуясь и без малейшей утайки, рассказал ей все: встречи мои с ней в Сорренто, в России, мои тщетные расспросы в Михайловском, даже разговор мой в Москве с Шлыковой и ее сестрой.
– Теперь вы все знаете, – продолжал я, окончив свой рассказ. – Я не стану описывать вам, какое глубокое, какое потрясающее впечатление вы произвели на меня: видеть вас и не быть очарованным вами – невозможно. С другой стороны, мне тоже не для чего говорить вам, какого рода было это впечатление. Вспомните, при каких условиях я оба раза видел вас… Поверьте, я не охотник предаваться безумным надеждам, но поймите также и то неизъяснимое волнение, которое овладело мною сегодня, и извините меня, извините неловкую хитрость, к которой я решился прибегнуть, чтоб обратить ваше внимание, хотя на мгновение…
Она выслушала мои сбивчивые объяснения, не поднимая головы.
– Что же вы хотите от меня? – сказала она наконец.
– Я?.. Я ничего не хочу… Я и так уже счастлив… Я слишком уважаю чужие тайны.
– Будто? Однако вы до сих пор, кажется… Впрочем, – продолжала она, – я не хочу упрекать вас. Всякий на вашем месте сделал бы то же. Притом случай действительно так настойчиво сближал нас… это как будто дает вам некоторое право на мою откровенность. Слушайте: я не принадлежу к числу тех женщин, непонятых и несчастных, которые ездят по маскарадам для того, чтобы болтать с первым встречным о своих страданиях, которым нужны сердца, исполненные сочувствия… Мне ничьего сочувствия не нужно; мое собственное сердце умерло, и я приехала сюда для того только, чтобы окончательно похоронить его.
Она поднесла платок к своим губам.
– Я надеюсь, – продолжала она с некоторым усилием, – что вы не принимаете моих слов за обыкновенные маскарадные излияния. Вы должны понять, что мне не до того…
И точно, в ее голосе было что-то страшное, при всей вкрадчивой мягкости ее звуков.
– Я русская, – сказала она по-русски – до тех пор она выражалась на французском языке, – хотя мало жила в России… Имя вам мое знать не нужно. Анна Федоровна моя старинная приятельница; я точно ездила в Михайловское под именем ее сестры… Тогда мне нельзя было с ним видеться явно… И без того начинали ходить слухи… тогда еще существовали препятствия – он не был свободен… Эти препятствия исчезли… но тот, чье имя должно было сделаться моим, тот, с которым вы меня видели, меня бросил.
Она сделала движение рукой и помолчала…
– Вы точно его не знаете? не встречались с ним?
– Ни разу.
– Он почти все это время провел за границей. Впрочем, он теперь здесь… Вот и вся моя история, – прибавила она, – вы видите, в ней нет ничего таинственного, ничего особенного.
– А Сорренто? – робко прервал я.
– Я с ним познакомилась в Сорренто, – медленно возразила она и задумалась.
Мы оба умолкли. Странное смущение овладело мною. Я сидел подле нее, подле той женщины, чей образ так часто носился в мечтах моих, так мучительно волновал и раздражал меня, – я сидел подле нее и чувствовал холод и тяжесть на сердце. Я знал, что ничего не выйдет из этой встречи, что между ею и мною была бездна, что мы, расставшись, разойдемся навсегда. Протянув голову и уронив обе руки на колени, сидела она равнодушно и небрежно. Знаю я эту небрежность неизлечимого горя, знаю равнодушие безвозвратного несчастья! Маски четами проходили мимо нас; звуки «однообразного и безумного» вальса то глухо отдавались в отдаленье, то приносились резкими взрывами; тяжело и печально волновала меня веселая бальная музыка. «Неужели, – думал я, – эта женщина – та самая, которая явилась мне некогда в окне того далекого деревенского домика во всем блеске торжествующей красоты?..» И между тем время, казалось, не коснулось ее. Нижняя часть ее лица, не скрытая кружевами маски, была почти младенчески нежна; но от нее веяло холодом, как от статуи… Возвратилась Галатея на свой пьедестал, и уже не сойти с него более.
Вдруг она выпрямилась, заглянула в другую комнату и встала.
– Дайте мне руку, – сказала она мне, – пойдемте скорей, скорей.
Мы вернулись в залу. Она шла так быстро, что я едва за ней поспевал. У одной колонны она остановилась.
– Подождемте здесь, – прошептала она.
– Вы кого-нибудь ищете, – начал было я…
Но она не обращала на меня внимания: пристальный взор ее вперился в толпу. Темно и грозно глядели из-под черного бархата ее черные большие глаза.
Я обернулся в направлении ее взора и все понял. По коридору, образуемому рядом колонн и стеной, шел он, тот мужчина, которого я встретил с нею в лесу. Я узнал его тотчас; он почти не изменился. Так же красиво вился его русый ус, такой же спокойной и самоуверенной веселостью светились его карие глаза. Он шел не торопясь и, слегка наклонив свой тонкий стан, рассказывал что-то женщине в домино, которую вел под руку. Поравнявшись с нами, он внезапно поднял голову, посмотрел сперва на меня, потом на ту, с которой я стоял, и, вероятно, узнал ее, узнал ее глаза, потому что брови его слегка дрогнули, – он прищурился, и чуть заметная, но нестерпимо дерзкая усмешка шевельнула его губы. Он нагнулся к своей спутнице, шепнул ей на ухо два слова, та тотчас оглянулась, голубенькие ее глазки торопливо окинули нас обоих, и, тихо засмеявшись, погрозила она ему своей маленькой ручкой. Он слегка приподнял одно плечо, она кокетливо к нему прижалась…
Я обернулся к моей незнакомке. Она смотрела вслед уходящей чете и вдруг, выдернув у меня руку, бросилась к дверям. Я было устремился вслед за ней, но она, обернувшись, так на меня взглянула, что я глубоко ей поклонился и остался на месте. Я понял, что преследовать ее было бы грубо и глупо.
– Скажи, пожалуйста, братец, – говорил я четверть часа спустя одному из моих приятелей – живому адрес-календарю Петербурга, – что это за высокий, красивый господин с усами?
– Это?.. это какой-то иностранец, довольно загадочное существо, очень редко появляющееся на нашем горизонте. А что?
– Так!..
Я вернулся домой. С тех пор я уже нигде не встречал моей незнакомки. Зная имя человека, которого она любила, я бы, вероятно, мог добиться наконец, кто она была такая, но я сам не желал этого. Я сказал выше, что эта женщина появилась мне как сновидение – и как сновидение прошла она мимо и исчезла навсегда.
1851
notes
Примечания
1
Перейди через эти холмы и приди весело ко мне: не заботься о слишком большом обществе. Приди один и во все время дороги думай обо мне, так чтоб я была твоим товарищем на всем пути. (Прим. автора.)
2
«Это ты?» (ит.).
3
«Вот веселый…» (ит.).
4
«Прощай!» (ит.).
5
«Молчать?» (фр.).
6
– Да, я все знаю, – пробормотал я еще раз.
Она взглянула на меня, проворно встала и хотела удалиться.
Но это было бы слишком жестоко. Я ее схватил за руку.
– Ради бога, – начал я, – сядьте, выслушайте меня…
Она подумала и села.
– Я вам сейчас говорил, – продолжал я с жаром, – что я все знаю, – это вздор. Я ничего не знаю, решительно ничего: я не знаю ни кто вы, ни кто он, и если я мог вас удивить тем, что я сказал вам сейчас у колонны, то припишите это одному случаю, странному, непонятному случаю, который, как будто на смех, два раза и почти одинаковым образом сталкивал меня с вами, делал меня невольным свидетелем того, что, может быть, вы бы желали сохранить в тайне…
И я тут же, нисколько не обинуясь и без малейшей утайки, рассказал ей все: встречи мои с ней в Сорренто, в России, мои тщетные расспросы в Михайловском, даже разговор мой в Москве с Шлыковой и ее сестрой.
– Теперь вы все знаете, – продолжал я, окончив свой рассказ. – Я не стану описывать вам, какое глубокое, какое потрясающее впечатление вы произвели на меня: видеть вас и не быть очарованным вами – невозможно. С другой стороны, мне тоже не для чего говорить вам, какого рода было это впечатление. Вспомните, при каких условиях я оба раза видел вас… Поверьте, я не охотник предаваться безумным надеждам, но поймите также и то неизъяснимое волнение, которое овладело мною сегодня, и извините меня, извините неловкую хитрость, к которой я решился прибегнуть, чтоб обратить ваше внимание, хотя на мгновение…
Она выслушала мои сбивчивые объяснения, не поднимая головы.
– Что же вы хотите от меня? – сказала она наконец.
– Я?.. Я ничего не хочу… Я и так уже счастлив… Я слишком уважаю чужие тайны.
– Будто? Однако вы до сих пор, кажется… Впрочем, – продолжала она, – я не хочу упрекать вас. Всякий на вашем месте сделал бы то же. Притом случай действительно так настойчиво сближал нас… это как будто дает вам некоторое право на мою откровенность. Слушайте: я не принадлежу к числу тех женщин, непонятых и несчастных, которые ездят по маскарадам для того, чтобы болтать с первым встречным о своих страданиях, которым нужны сердца, исполненные сочувствия… Мне ничьего сочувствия не нужно; мое собственное сердце умерло, и я приехала сюда для того только, чтобы окончательно похоронить его.
Она поднесла платок к своим губам.
– Я надеюсь, – продолжала она с некоторым усилием, – что вы не принимаете моих слов за обыкновенные маскарадные излияния. Вы должны понять, что мне не до того…
И точно, в ее голосе было что-то страшное, при всей вкрадчивой мягкости ее звуков.
– Я русская, – сказала она по-русски – до тех пор она выражалась на французском языке, – хотя мало жила в России… Имя вам мое знать не нужно. Анна Федоровна моя старинная приятельница; я точно ездила в Михайловское под именем ее сестры… Тогда мне нельзя было с ним видеться явно… И без того начинали ходить слухи… тогда еще существовали препятствия – он не был свободен… Эти препятствия исчезли… но тот, чье имя должно было сделаться моим, тот, с которым вы меня видели, меня бросил.
Она сделала движение рукой и помолчала…
– Вы точно его не знаете? не встречались с ним?
– Ни разу.
– Он почти все это время провел за границей. Впрочем, он теперь здесь… Вот и вся моя история, – прибавила она, – вы видите, в ней нет ничего таинственного, ничего особенного.
– А Сорренто? – робко прервал я.
– Я с ним познакомилась в Сорренто, – медленно возразила она и задумалась.
Мы оба умолкли. Странное смущение овладело мною. Я сидел подле нее, подле той женщины, чей образ так часто носился в мечтах моих, так мучительно волновал и раздражал меня, – я сидел подле нее и чувствовал холод и тяжесть на сердце. Я знал, что ничего не выйдет из этой встречи, что между ею и мною была бездна, что мы, расставшись, разойдемся навсегда. Протянув голову и уронив обе руки на колени, сидела она равнодушно и небрежно. Знаю я эту небрежность неизлечимого горя, знаю равнодушие безвозвратного несчастья! Маски четами проходили мимо нас; звуки «однообразного и безумного» вальса то глухо отдавались в отдаленье, то приносились резкими взрывами; тяжело и печально волновала меня веселая бальная музыка. «Неужели, – думал я, – эта женщина – та самая, которая явилась мне некогда в окне того далекого деревенского домика во всем блеске торжествующей красоты?..» И между тем время, казалось, не коснулось ее. Нижняя часть ее лица, не скрытая кружевами маски, была почти младенчески нежна; но от нее веяло холодом, как от статуи… Возвратилась Галатея на свой пьедестал, и уже не сойти с него более.
Вдруг она выпрямилась, заглянула в другую комнату и встала.
– Дайте мне руку, – сказала она мне, – пойдемте скорей, скорей.
Мы вернулись в залу. Она шла так быстро, что я едва за ней поспевал. У одной колонны она остановилась.
– Подождемте здесь, – прошептала она.
– Вы кого-нибудь ищете, – начал было я…
Но она не обращала на меня внимания: пристальный взор ее вперился в толпу. Темно и грозно глядели из-под черного бархата ее черные большие глаза.
Я обернулся в направлении ее взора и все понял. По коридору, образуемому рядом колонн и стеной, шел он, тот мужчина, которого я встретил с нею в лесу. Я узнал его тотчас; он почти не изменился. Так же красиво вился его русый ус, такой же спокойной и самоуверенной веселостью светились его карие глаза. Он шел не торопясь и, слегка наклонив свой тонкий стан, рассказывал что-то женщине в домино, которую вел под руку. Поравнявшись с нами, он внезапно поднял голову, посмотрел сперва на меня, потом на ту, с которой я стоял, и, вероятно, узнал ее, узнал ее глаза, потому что брови его слегка дрогнули, – он прищурился, и чуть заметная, но нестерпимо дерзкая усмешка шевельнула его губы. Он нагнулся к своей спутнице, шепнул ей на ухо два слова, та тотчас оглянулась, голубенькие ее глазки торопливо окинули нас обоих, и, тихо засмеявшись, погрозила она ему своей маленькой ручкой. Он слегка приподнял одно плечо, она кокетливо к нему прижалась…
Я обернулся к моей незнакомке. Она смотрела вслед уходящей чете и вдруг, выдернув у меня руку, бросилась к дверям. Я было устремился вслед за ней, но она, обернувшись, так на меня взглянула, что я глубоко ей поклонился и остался на месте. Я понял, что преследовать ее было бы грубо и глупо.
– Скажи, пожалуйста, братец, – говорил я четверть часа спустя одному из моих приятелей – живому адрес-календарю Петербурга, – что это за высокий, красивый господин с усами?
– Это?.. это какой-то иностранец, довольно загадочное существо, очень редко появляющееся на нашем горизонте. А что?
– Так!..
Я вернулся домой. С тех пор я уже нигде не встречал моей незнакомки. Зная имя человека, которого она любила, я бы, вероятно, мог добиться наконец, кто она была такая, но я сам не желал этого. Я сказал выше, что эта женщина появилась мне как сновидение – и как сновидение прошла она мимо и исчезла навсегда.
1851
notes
Примечания
1
Перейди через эти холмы и приди весело ко мне: не заботься о слишком большом обществе. Приди один и во все время дороги думай обо мне, так чтоб я была твоим товарищем на всем пути. (Прим. автора.)
2
«Это ты?» (ит.).
3
«Вот веселый…» (ит.).
4
«Прощай!» (ит.).
5
«Молчать?» (фр.).
6