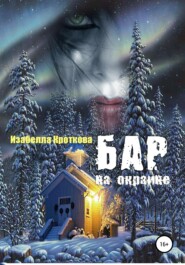По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Никогда не кончится июнь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Потому что между мелких строк выплывали какие-то ускользающие кадры той, другой жизни, о которой упоминал Борис Тимофеевич.
И я почему-то отчетливо знала, что обычной памятью вспомнить этого невозможно.
Вернее, может быть, возможно при каких-то определенных условиях. Каких?..
Я решилась на эксперимент, и память, перелистывая пласты моей недолгой жизни, уже залезла так глубоко, что погрузилась в самое раннее детство, и я с трудом вытащила ее оттуда, обессиленную от поиска хоть каких-то соприкосновений с антикваром…
Она не нашла там ничего, связанного с умершим соседом, кроме того единственного эпизода, когда семилетней девочкой я пришла к нему с тарелкой блинов…
Значит, файлы находятся не здесь…
Но они есть. Это я почему-то точно знала.
Как то, что днем светит солнце, а ночью – луна.
И, скрестив от внезапного холода на груди руки, я понимала, что обязательно и всенепременно должна сделать то, чего он ждет от меня.
Иначе…
…И помни – у НИХ в плену остается…
(Интересно, у кого это – у НИХ?..)
Одна юная жизнь.
Иначе – я была уверена – быть беде.
Я прошла в свою комнату и, медленно шевеля рукой, положила письмо в верхний ящик комода.
Потом, загибая пальцы, посчитала дни. Получилось, что со дня смерти Бориса Тимофеевича прошло шесть дней.
Торопись…
Оглядела свою тихую комнату и снова почувствовала легкий укол в солнечное сплетение от мысли, что прямо над ней находится его предсмертное пристанище.
Внезапно меня захватило необычное ощущение…
Словно на какой-то миг моя душа расцепилась с телом.
И это мне тоже что-то смутно напомнило…
В память вновь пролезла строка упавшего под ноги послания.
Если вспомнишь…
И я поняла, что если и смогу что-то вспомнить, то только там, наверху, в точно такой же комнате, как эта, посреди которой я сейчас стою в полном замешательстве.
И, не теряя времени, я вышла из квартиры и по широким ступеням уже привычно поднялась на двенадцатый этаж, взяла в руку холодную медную голову льва и нажала на кнопку звонка в квартиру 96.
Глава восьмая
Степа принял меня, как мне показалось, отстраненно – казалось, его всерьез заботило какое-то новое обстоятельство. Хмуро произнеся «Привет…», он удалился вглубь квартиры и пропал из виду.
Разувшись, я разыскала его в комнате дяди.
Он молча стоял перед письменным столом. На столе не было ни ручки, ни тетради.
Урна тоже была пуста.
Внезапно племянник обернулся ко мне и возбужденно сообщил:
– Знаешь, что он писал?!
– Что? – спросила я, присаживаясь в плетеное кресло-качалку, стоящее у стены.
– Ноты! – выпалил парень и резким движением отбросил со лба длинную светлую челку.
«Ноты…» – повторила я медленным шепотом, словно это могло что-то прояснить в моей ситуации.
Но, кажется, ничего не прояснило.
– Какие ноты? – уточнила я.
– Не знаю… Я не разбираюсь в музыке, – ответил Степа. – Но это точно ноты.
– Покажи, – попросила я.
Степа приподнялся на цыпочки и достал с верхней полки длинную нотную тетрадь в красивом переплете.
– Вот. Это она каждую ночь сама собой появляется на столе. А к утру в ней добавляется несколько новых строк… Я заметил… Слушай! – Он вдруг с безумными глазами вцепился в меня, как клещ. – Давай сегодня у тебя переночуем?! Я больше не могу. Я с ума сойду!
Я взглянула на протянутую тетрадь. Действительно, ноты. Написаны черными чернилами, как и письмо, свалившееся с неба прямо мне под ноги.
Я пристально всмотрелась в замысловатые строки.
И поняла, что произведение предназначается для исполнения на гитаре.
А что если сыграть то, что здесь написано?..
– Сыграть тебе на гитаре? – предложила я.
В ответ на Степину мольбу переночевать у меня эта фраза совершенно случайно прозвучала издевательски. Он посмотрел на меня как на врага.
Я вспомнила, что парень не в курсе, что я гитаристка.
– Если бы у меня были деньги… – задумчиво произнес он, проигнорировав предложение, – я бы снял гостиницу на эти сорок… тридцать пять… нет, тридцать четыре дня.
Вот влип, бедняга… – подумала я, глядя на его несчастное лицо, и в мозг вдруг снова впились последние строчки письма.