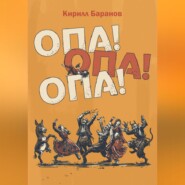По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Птица огня
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Птица огня
Кирилл Баранов
Непонятно в какую яму катится империя Матараджан!.. Южные княжества только пакостят и хотят независимости. Вельможи и дворяне, уставшие от танцев и оргий, развлекаются переворотами. Храмы не отличить от борделей. Тут еще, как назло, прямо из покоев своих испаряется принцесса империи, изнеженная наследница трона, а какое-то непонятное огненное чудище сжигает золотые дворцы и замки пузатых феодалов – и те горят, как бумажные! Пеплом пожарищ покрыт несчастный Матараджан, и льются над золотом слезы.
А где-то на юге страны шатается в поисках развлечений побитый жизнью музыкант, раскрашивает всех подряд синяками психованная бандитка, кушает пирожные рогатая демоница и стреляет из пушки носатый ученый. Где-то скачут по Матараджану на лошадях немытые волки и с ними надменный розовый боров в золотых доспехах. И скоро судьбы этих нелепых созданий сплетутся в пылающий узел, кулаки застучат по лицам, замечутся стрелы, полезет обратно выпитое и от ужаса завизжат надутые богачи!
Кирилл Баранов
Птица огня
ГЛАВА 1
– Она ведь не умрет, доктор?
– Да какой же я вам доктор, девушка!? – он немного приобернулся, совсем чуть-чуть, даже как будто только глаз скосил, приосанился.
Девушке было давно за пятьдесят.
– Доктор – это тот, кто если у вас чего отвалится, – продолжал он, косясь страшным, полуслепым, почти белым глазом, – так он прибежит и на место прикрутит, а я, если что – сразу в обморок упаду.
Он водил подушечками пальцев по струнам лежащего на коленях гаюдуна, вслушивался, с первой перешел на вторую, слегка подкрутил ее, потом третью, долго-долго тер четвертую, но так ничего и не сделал с ней, оставил в покое. Струны, толстые, из конского волоса, немного поскрипывали, но не звучали.
А потом он неожиданно снова приобернулся, скосил свой странный, все-таки совсем не страшный левый глаз и добавил зачем-то:
– А потом встану и опять упаду.
Женщина, и без того чуть живая, совсем побледнела, перепугалась. Мужчина возле нее беззвучно сглотнул слюну. Они сидели позади музыканта прямо на полу. Стулья в комнате расставили по углам один на другой, кровать вообще вынесли наружу, чтобы ничего не мешало. А посреди комнаты на твердом, не отстирываемом старом ковре лежала девочка лет десяти, а может, несколько старше. Ее длиннющие, никогда в жизни не стриженые волосы раскинулись лучами по всему полу, спутанные, грязные, как замершие змеюки. Руки девочки сперва уложили на грудь, как у покойницы, но музыкант, едва войдя в комнату, сразу расположил их вдоль тела. Лицо ее, слабо различимое в темноте закрытого наглухо помещения, приковывало взгляд неестественной, какой-то светящейся краснотой, словно под кожей у девочки завелись кровавые светлячки. Она дышала слабо и рывками, каждый вдох сопровождался хриплым хлопком. Глаза были закрыты. Закрыты давно – уже месяц она не приходила в сознание, застыв где-то между сном жизни и мраком смерти.
В крошечном домике закрыли на щеколду дверь, а потом еще и подперли ее столом, чтобы вдруг как бы чего ни того, затворили ставни двух маленьких окошечек и завесили их тряпьем, скрыв происходящее внутри от солнечных лучей и косых взглядов. Дверь в соседнюю комнату – в спальню – тоже заперли, но и там на всякий случай все занавесили, все спрятали. Одна лишь тоненькая свечка легонько дрожала у деревянного ящика музыканта, да и та больше чадила, чем светила.
Домик этот, небрежно сложенный из бревен много лет назад, казалось должен был ходить ходуном от любого ветерка, но подпиравшие его снаружи волны камней держали стены крепко. А вот крыша, выложенная хворостом и соломой, ездила то туда, то сюда, ветер вазюкал ее из стороны в сторону, будто игрался, да все ничего не мог с ней поделать.
Со двора кое-как доносились вопли двух мальчишек – старших братьев больной девочки. Балбесы играли в какую-то кровавую потасовку.
Музыкант вздохнул, но продолжил работу. Сперва достал из ящика три баночки, открыл среднюю из них, зачерпнул пальцем мазь с приятным запахом и стал растирать ею струны. После, педантично завинтив крышку банки, извлек из внутреннего кармашка мягкую шелковую тряпочку, и, легонько прикладывая к смазанным местам, аккуратно вытер лишнее.
Женщина позади, мать девочки, дрожала и нетерпеливо ерзала, будто ее на сковородку посадили. Взгляд ее постоянно натыкался на левую руку музыканта, которой тот пока лишь поддерживал инструмент на коленях. Ладонь этой руки вся покрыта была паутиной шрамов – крупных и поменьше, – пальцы, особенно большой и указательный, почти не двигались, и порой женщина замечала, как музыкант сгибает их упором в бедро. Боже мой, думала она, да ведь этот человек едва ли не калека! Как же он собирается играть на инструменте?! Эта ладонь, так манившая взгляд женщины, как будто собрала в себе всю ее неуверенность, весь страх. А еще этот белый глаз, который вроде бы и не видит тебя, а кажется, что от него не скроешь никаких тайн. Будто он зрит весь мир насквозь – и то, что там дальше, в глубине. Отец девочки, совсем седой и осунувшийся, с усталым, покорным взглядом, сидел тихим призраком.
Музыкант на всякий случай вынул из ящика пухлый барабанчик размером с кулак и поставил его у левого бедра, потом, чем-то неудовлетворенный, сместил немного в сторону, а мгновение спустя вернул наполовину обратно. Посидел, подумал, остался доволен. Наконец, все из-того же ящика он извлек чехол с плектрами, вытащил один, к краю которого было прикреплено что-то вроде щеточки, которую тут же стал вымазывать мазью из третьей банки.
– Может, я вам чем-то помогу? – не вытерпела женщина, еще и привстала было, и замерла в порыве.
Музыкант вздрогнул, остановил работу и опять покосился на «девушку» своим непонятно куда глядящим глазом.
– Сидите тихонько-тихонько, – сказал он после многозначительной паузы. – Лучше и глаза закройте. Когда понадобится помощь – я вас окликну. А до этого под руку – не надо, прошу покорнейше, – он аккуратно вытер тряпочкой мазь со щетины плектра. – Был у меня друг. Звали Чапалуга… если не вру. Хотя, чего же был? Жив, конечно, до сих пор прожигает… Да и не друг он мне, собственно, и не приятель никакой, не встречались даже, не виделись ни разу. И звать его как-то по-другому, что-то там на «пэ» или… Или что-то там такое… Короче говоря, было дело. Собрались, дом, тишина. На постели – больной. По стенам родственники нависают, как палачи. Заиграл он, затеребенькал. Тишина, идет процесс, развивается тихонько. Медленно, не спеша. Идут минуты, часы… И тут – рраз! – кто-то возьми да кашляни!.. Мощно, умело. Как по стене кувалдой. С перепугу у Чапалуги дрогнула рука, пальцы по струнам звенькнули, цапнули чего не надо было… И все… Наутро в комнату заходят – а там все стены с потолком кровью залиты, и люди без голов. Все до единого!
– Вы же сказали, что ваш друг жив!?
– Да вы мне верьте больше, – музыкант отмахнулся. – Мало ли чего я сказал!? Вот еще могу, например, другой случай. Есть у нас в артели девушка-красавица, распрекрасная такая, что только ночью из дому выйдет – цветы опадают от зависти… Но это не к делу. Так вот, пригласили ее тоже как-то раз. Зашла, села на стул у больного, достала инструмент. Что у нее там было – врать не стану, чуть ли не ямидали. Это такой инструмент, что… Да пес с ним! Сидит, короче говоря, играет, извлекает, скажем так, звук. Больному в постели легче, он уж и глаза открыл, и красавицей нашей любуется, все у него замечательно, в общем, жизнь удалась. А за дверью пол деревни собралось, и все бубнят, и все тарабарят, и все шумят, как будто медведи оргию завели и танцами развлекаются. Как демоны из преисподней! И в момент самый ответственный, в кульминационный, можно сказать, кто-то там что-то уронил. Бутылку с водкой, я так предполагаю, потому что вопль поднялся неизъяснимый. И наша девушка-красавица, прекрасная, как золотая луна на небесах, и без того на иголках – сфальшивила. Чуток совсем, на четвертинку, на восьмерочку. Но сфальшивила! И разом – тишина… Как в гробу, который уж два года под землей зарыт. Тишина – и все… Она перепуганная к двери, а за ней – стены с потолком кровью залиты, и люди без голов. Все до единого!
– Ужас какой…
Музыкант вытер щетку плектра, встряхнул ее для верности, затем вытащил из ящика новую тряпочку – красную, с пупырышками – и запихнул на деку под струны.
– А вот был еще случай – из совсем вопиющих… Пригласило одного музыканта дворянское семейство. Люди большие, высокие, со светлыми, хотя немного извращенными лицами. Красивые, как тыквы подгнившие. Князьки-бароны. И говорят ему, значит, помоги, излечи, значит, нашего сына от тупости. Мы тебе за это ничего не пожалеем, по крайней мере покормим… В комнате для слуг… Помоями… Музыкант протестовал, ругался, кусаться начал. Да как же, говорит, от тупости-то я? Это не по моей части, я и сам, в общем и целом… Но согласился, после нескольких кулачных аргументов, сел. Играет, значит, на барабане пристукивает. Не таком, как у меня, а побольше, посолиднее. Сидит час, сидит второй. Сидит день, сидит третий. Не выдержала мать, заходит тихонько в комнату, крадучись, но гордо, и спрашивает сына – ну что, родненький, поумнел немного, идиот? Музыкант, дурак, как и все мы, со смеху так и прыснул. Рукой по барабану припадочно – шмяк! И все.
– Кошмар какой!
– Что такое?
– Стены с потолком кровью залиты, и люди без голов?
– Девушка, вам бы романы писать, но да – стены рассыпались, стекла побились, занавески порвались. Одни руины там теперь, ничего не осталось.
– Все, молчу, ни слова не скажу.
– Слава падишахам…
Музыкант наконец закончил подготовку и внимательно осмотрел инструмент.
– А сын-то дураком и остался, – зачем-то добавил он.
Женщина снова хотела что-то сказать, но, открыв только рот, – одернула себя.
Музыкант же уложил гаюдун поудобнее, чтобы тяжелые колки не тянули его вниз с колен, и сказал:
– Начинаю. Тихо все.
Он вздохнул и одной рукой принялся медленно водить щеткой плектра по струнам у деки, а другой как-то совсем уж грубо, будто без какой-то системы обхватил толстый гриф. Шелест – а скорее скрип – едва был слышим в тишине, и потрескивание слабенькой свечки почти перекрикивало, перешептывало грубый шум, так не похожий на музыку, которую должен бы играть этот инструмент.
Музыкант, не меняя положения спутанных пальцев, стал двигать всю ладонь по грифу в сторону деки, но так неторопливо, что сидящие позади обратили на это внимание тогда лишь, когда ладонь сместилась уже на две своих ширины. Другой же рукой, плектром, он давил на струны все сильнее, все тяжелее, таким образом в дело вступало все больше волосков неравномерной щетки, и все грубее эти волоски были. Звук становился беспокойнее, скрипучее, как ветер, летающий где-то в вышине над пустым полем. Превратившись в монотонный шум, он с каждым проходом плектра заполнял собой эту закрытую комнату; с каждым проходом, становившимся все настойчивее, глубже, углублялся и звук, приобретал новые черты, растушевывал постепенно некоторую резкость, писклявость, и обретал объем, форму. И в какой-то момент музыкант, надавив плектром, сдвинул большим пальцем щетку, и она, съехав в сторону, упала у его колен. И тогда, дотронувшись без перерыва до струн самим плектром, впрочем, все еще покрытым чем-то у своего основания, музыкант поплыл в пространстве. Или, скорее, само пространство потекло вокруг него. Казалось, протяни руку – коснешься звука, и он обхватит тебя, понесет, может быть, своим потоком, неспособным вырваться из закрытой комнаты, а возможно – окружит и задушит, как удав. Ощущаемый целостной массой звук все же просачивался сквозь жирные щели, трещины, плохо подогнанные бревна и ставни, а выбравшись на свет солнечный – шипел, дымился, расслаивался.
Все кругом полнилось этим неизменным, однообразным, нарочито нечеловеческим гулом. Больше, чем нечеловеческим, просто невозможным в природе ревом.
И вдруг в темноте, чуть отступавшей перед стоявшей у ног музыканта свечой, появился свет. Сперва сидевшие позади не уловили откуда, и лишь секунды, или минуты, или часы спустя, когда свет уже озарил пятнышками белесыми стены, они поняли, что источает его их собственная маленькая дочь, хрипло стонущая на полу. Крошечные, как светлячки, белые горошинки вспухали где-то у нее под кожей, плавали там, волновались. Спустя какое-то совсем неопределимое по ощущениям время светлячки эти потекли вдоль всего тела девочки – из ног, из рук, из живота – вверх, к горлу, к лицу, и стали высыпать наружу маленькими стайками через нос, уши, приоткрытый болезненно рот. Как пчелиный рой, они, закручиваясь вихрем, поднимались к потолку и немного зеленели там, рассыпались, растекались вверху как вода, что перепутала землю с небесами. Девочка затряслась и громко застонала, а звук от инструмента приобрел масштаб такого вселенского гула, что затрещали стены, задвигались, стали выгибаться наружу, будто маленький домишко переполнился этим гулом дальше некуда и вот-вот грозился лопнуть. Но вместо того, чтоб рассыпаться на части, он начал расширяться. То есть казалось, что он расширяется. Стены раздавались в стороны. Занавешенные ставни двинулись прочь от сидящих, будто те оказались в лодке, уплывающей от берега и его огней. И заволновался, забултыхался пол. Пространство, темное и душное, теряло ясность форм. Так нарисованное на песке стирают раз за разом набегающие волны.
То белые, то ярко-зеленые светлячки, заполнив собой все вокруг, весь мир от основания до гибели, завертелись друг вокруг друга и принялись собираться в громадный глубок, будто обволакивавший их гул инструмента не давал им вырваться наружу, кружил их в себе. Стены, пол, воздух – все вибрировало, еле заметно, но с умиротворяющим постоянством…
И тогда что-то случилось.
Никто поначалу не понял – что, даже музыкант не успел сообразить. Что-то стукнуло, что-то глухо ударилось, и стало как-то сразу неправильно… Целые секунды спустя он понял, что откуда-то с полатей свалилась к его ногам деревянная ложка – хотя он просил убрать все, что может сдвинуться – и, упав, погасила свечу.
Женщина ахнула. Слишком громко.
Удар ложки и женский голос разрезали гул инструмента, вспороли пространство и клубок выпорхнувших изо рта девочки светлячков. Те дернулись, да так резко, что затрещало все! Клубок разорвался сперва на части, а потом части эти, налившись инфернальным красным светом, завертелись вокруг себя, стали собираться в единую плотную массу, в одного исполинского светляка. Мечущаяся вокруг него крошечная мошкара набросилась на людей тысячью пчел. Брызнула кровь!
Музыкант вздрогнул от неожиданности, сбился ритм, звуковая волна сорвалась, рассыпалась и осколками исполосовала пространство, затарабанила по стенам. И сквозь разорванную ткань мира полезло в него что-то потустороннее… Сквозь щели в полах, сквозь дырки в стенах и разрывы в потолке – отовсюду разом поползли черно-коричневыми угрями извивающиеся, длиннющие волосатые пальцы. А на концах их – когти, змеящиеся, гнутые, острые. Пальцы, сотни пальцев хрустели костяшками и ломали все вокруг себя, тянулись к людям, к темноте и к клокочущему, красному разъяренному клубку. И, как и он, когтистые пальцы эти сияли странным огнем, который вроде бы и светится, а не светит.
Музыкант сделал какое-то быстрое движение ладонью, и составной плектр вывалился на пол, а на его месте тотчас появился новый, поменьше, белый, твердый, как из слоновой кости. Все это время он прятался где-то между средним и безымянным пальцами – на всякий случай.
Кирилл Баранов
Непонятно в какую яму катится империя Матараджан!.. Южные княжества только пакостят и хотят независимости. Вельможи и дворяне, уставшие от танцев и оргий, развлекаются переворотами. Храмы не отличить от борделей. Тут еще, как назло, прямо из покоев своих испаряется принцесса империи, изнеженная наследница трона, а какое-то непонятное огненное чудище сжигает золотые дворцы и замки пузатых феодалов – и те горят, как бумажные! Пеплом пожарищ покрыт несчастный Матараджан, и льются над золотом слезы.
А где-то на юге страны шатается в поисках развлечений побитый жизнью музыкант, раскрашивает всех подряд синяками психованная бандитка, кушает пирожные рогатая демоница и стреляет из пушки носатый ученый. Где-то скачут по Матараджану на лошадях немытые волки и с ними надменный розовый боров в золотых доспехах. И скоро судьбы этих нелепых созданий сплетутся в пылающий узел, кулаки застучат по лицам, замечутся стрелы, полезет обратно выпитое и от ужаса завизжат надутые богачи!
Кирилл Баранов
Птица огня
ГЛАВА 1
– Она ведь не умрет, доктор?
– Да какой же я вам доктор, девушка!? – он немного приобернулся, совсем чуть-чуть, даже как будто только глаз скосил, приосанился.
Девушке было давно за пятьдесят.
– Доктор – это тот, кто если у вас чего отвалится, – продолжал он, косясь страшным, полуслепым, почти белым глазом, – так он прибежит и на место прикрутит, а я, если что – сразу в обморок упаду.
Он водил подушечками пальцев по струнам лежащего на коленях гаюдуна, вслушивался, с первой перешел на вторую, слегка подкрутил ее, потом третью, долго-долго тер четвертую, но так ничего и не сделал с ней, оставил в покое. Струны, толстые, из конского волоса, немного поскрипывали, но не звучали.
А потом он неожиданно снова приобернулся, скосил свой странный, все-таки совсем не страшный левый глаз и добавил зачем-то:
– А потом встану и опять упаду.
Женщина, и без того чуть живая, совсем побледнела, перепугалась. Мужчина возле нее беззвучно сглотнул слюну. Они сидели позади музыканта прямо на полу. Стулья в комнате расставили по углам один на другой, кровать вообще вынесли наружу, чтобы ничего не мешало. А посреди комнаты на твердом, не отстирываемом старом ковре лежала девочка лет десяти, а может, несколько старше. Ее длиннющие, никогда в жизни не стриженые волосы раскинулись лучами по всему полу, спутанные, грязные, как замершие змеюки. Руки девочки сперва уложили на грудь, как у покойницы, но музыкант, едва войдя в комнату, сразу расположил их вдоль тела. Лицо ее, слабо различимое в темноте закрытого наглухо помещения, приковывало взгляд неестественной, какой-то светящейся краснотой, словно под кожей у девочки завелись кровавые светлячки. Она дышала слабо и рывками, каждый вдох сопровождался хриплым хлопком. Глаза были закрыты. Закрыты давно – уже месяц она не приходила в сознание, застыв где-то между сном жизни и мраком смерти.
В крошечном домике закрыли на щеколду дверь, а потом еще и подперли ее столом, чтобы вдруг как бы чего ни того, затворили ставни двух маленьких окошечек и завесили их тряпьем, скрыв происходящее внутри от солнечных лучей и косых взглядов. Дверь в соседнюю комнату – в спальню – тоже заперли, но и там на всякий случай все занавесили, все спрятали. Одна лишь тоненькая свечка легонько дрожала у деревянного ящика музыканта, да и та больше чадила, чем светила.
Домик этот, небрежно сложенный из бревен много лет назад, казалось должен был ходить ходуном от любого ветерка, но подпиравшие его снаружи волны камней держали стены крепко. А вот крыша, выложенная хворостом и соломой, ездила то туда, то сюда, ветер вазюкал ее из стороны в сторону, будто игрался, да все ничего не мог с ней поделать.
Со двора кое-как доносились вопли двух мальчишек – старших братьев больной девочки. Балбесы играли в какую-то кровавую потасовку.
Музыкант вздохнул, но продолжил работу. Сперва достал из ящика три баночки, открыл среднюю из них, зачерпнул пальцем мазь с приятным запахом и стал растирать ею струны. После, педантично завинтив крышку банки, извлек из внутреннего кармашка мягкую шелковую тряпочку, и, легонько прикладывая к смазанным местам, аккуратно вытер лишнее.
Женщина позади, мать девочки, дрожала и нетерпеливо ерзала, будто ее на сковородку посадили. Взгляд ее постоянно натыкался на левую руку музыканта, которой тот пока лишь поддерживал инструмент на коленях. Ладонь этой руки вся покрыта была паутиной шрамов – крупных и поменьше, – пальцы, особенно большой и указательный, почти не двигались, и порой женщина замечала, как музыкант сгибает их упором в бедро. Боже мой, думала она, да ведь этот человек едва ли не калека! Как же он собирается играть на инструменте?! Эта ладонь, так манившая взгляд женщины, как будто собрала в себе всю ее неуверенность, весь страх. А еще этот белый глаз, который вроде бы и не видит тебя, а кажется, что от него не скроешь никаких тайн. Будто он зрит весь мир насквозь – и то, что там дальше, в глубине. Отец девочки, совсем седой и осунувшийся, с усталым, покорным взглядом, сидел тихим призраком.
Музыкант на всякий случай вынул из ящика пухлый барабанчик размером с кулак и поставил его у левого бедра, потом, чем-то неудовлетворенный, сместил немного в сторону, а мгновение спустя вернул наполовину обратно. Посидел, подумал, остался доволен. Наконец, все из-того же ящика он извлек чехол с плектрами, вытащил один, к краю которого было прикреплено что-то вроде щеточки, которую тут же стал вымазывать мазью из третьей банки.
– Может, я вам чем-то помогу? – не вытерпела женщина, еще и привстала было, и замерла в порыве.
Музыкант вздрогнул, остановил работу и опять покосился на «девушку» своим непонятно куда глядящим глазом.
– Сидите тихонько-тихонько, – сказал он после многозначительной паузы. – Лучше и глаза закройте. Когда понадобится помощь – я вас окликну. А до этого под руку – не надо, прошу покорнейше, – он аккуратно вытер тряпочкой мазь со щетины плектра. – Был у меня друг. Звали Чапалуга… если не вру. Хотя, чего же был? Жив, конечно, до сих пор прожигает… Да и не друг он мне, собственно, и не приятель никакой, не встречались даже, не виделись ни разу. И звать его как-то по-другому, что-то там на «пэ» или… Или что-то там такое… Короче говоря, было дело. Собрались, дом, тишина. На постели – больной. По стенам родственники нависают, как палачи. Заиграл он, затеребенькал. Тишина, идет процесс, развивается тихонько. Медленно, не спеша. Идут минуты, часы… И тут – рраз! – кто-то возьми да кашляни!.. Мощно, умело. Как по стене кувалдой. С перепугу у Чапалуги дрогнула рука, пальцы по струнам звенькнули, цапнули чего не надо было… И все… Наутро в комнату заходят – а там все стены с потолком кровью залиты, и люди без голов. Все до единого!
– Вы же сказали, что ваш друг жив!?
– Да вы мне верьте больше, – музыкант отмахнулся. – Мало ли чего я сказал!? Вот еще могу, например, другой случай. Есть у нас в артели девушка-красавица, распрекрасная такая, что только ночью из дому выйдет – цветы опадают от зависти… Но это не к делу. Так вот, пригласили ее тоже как-то раз. Зашла, села на стул у больного, достала инструмент. Что у нее там было – врать не стану, чуть ли не ямидали. Это такой инструмент, что… Да пес с ним! Сидит, короче говоря, играет, извлекает, скажем так, звук. Больному в постели легче, он уж и глаза открыл, и красавицей нашей любуется, все у него замечательно, в общем, жизнь удалась. А за дверью пол деревни собралось, и все бубнят, и все тарабарят, и все шумят, как будто медведи оргию завели и танцами развлекаются. Как демоны из преисподней! И в момент самый ответственный, в кульминационный, можно сказать, кто-то там что-то уронил. Бутылку с водкой, я так предполагаю, потому что вопль поднялся неизъяснимый. И наша девушка-красавица, прекрасная, как золотая луна на небесах, и без того на иголках – сфальшивила. Чуток совсем, на четвертинку, на восьмерочку. Но сфальшивила! И разом – тишина… Как в гробу, который уж два года под землей зарыт. Тишина – и все… Она перепуганная к двери, а за ней – стены с потолком кровью залиты, и люди без голов. Все до единого!
– Ужас какой…
Музыкант вытер щетку плектра, встряхнул ее для верности, затем вытащил из ящика новую тряпочку – красную, с пупырышками – и запихнул на деку под струны.
– А вот был еще случай – из совсем вопиющих… Пригласило одного музыканта дворянское семейство. Люди большие, высокие, со светлыми, хотя немного извращенными лицами. Красивые, как тыквы подгнившие. Князьки-бароны. И говорят ему, значит, помоги, излечи, значит, нашего сына от тупости. Мы тебе за это ничего не пожалеем, по крайней мере покормим… В комнате для слуг… Помоями… Музыкант протестовал, ругался, кусаться начал. Да как же, говорит, от тупости-то я? Это не по моей части, я и сам, в общем и целом… Но согласился, после нескольких кулачных аргументов, сел. Играет, значит, на барабане пристукивает. Не таком, как у меня, а побольше, посолиднее. Сидит час, сидит второй. Сидит день, сидит третий. Не выдержала мать, заходит тихонько в комнату, крадучись, но гордо, и спрашивает сына – ну что, родненький, поумнел немного, идиот? Музыкант, дурак, как и все мы, со смеху так и прыснул. Рукой по барабану припадочно – шмяк! И все.
– Кошмар какой!
– Что такое?
– Стены с потолком кровью залиты, и люди без голов?
– Девушка, вам бы романы писать, но да – стены рассыпались, стекла побились, занавески порвались. Одни руины там теперь, ничего не осталось.
– Все, молчу, ни слова не скажу.
– Слава падишахам…
Музыкант наконец закончил подготовку и внимательно осмотрел инструмент.
– А сын-то дураком и остался, – зачем-то добавил он.
Женщина снова хотела что-то сказать, но, открыв только рот, – одернула себя.
Музыкант же уложил гаюдун поудобнее, чтобы тяжелые колки не тянули его вниз с колен, и сказал:
– Начинаю. Тихо все.
Он вздохнул и одной рукой принялся медленно водить щеткой плектра по струнам у деки, а другой как-то совсем уж грубо, будто без какой-то системы обхватил толстый гриф. Шелест – а скорее скрип – едва был слышим в тишине, и потрескивание слабенькой свечки почти перекрикивало, перешептывало грубый шум, так не похожий на музыку, которую должен бы играть этот инструмент.
Музыкант, не меняя положения спутанных пальцев, стал двигать всю ладонь по грифу в сторону деки, но так неторопливо, что сидящие позади обратили на это внимание тогда лишь, когда ладонь сместилась уже на две своих ширины. Другой же рукой, плектром, он давил на струны все сильнее, все тяжелее, таким образом в дело вступало все больше волосков неравномерной щетки, и все грубее эти волоски были. Звук становился беспокойнее, скрипучее, как ветер, летающий где-то в вышине над пустым полем. Превратившись в монотонный шум, он с каждым проходом плектра заполнял собой эту закрытую комнату; с каждым проходом, становившимся все настойчивее, глубже, углублялся и звук, приобретал новые черты, растушевывал постепенно некоторую резкость, писклявость, и обретал объем, форму. И в какой-то момент музыкант, надавив плектром, сдвинул большим пальцем щетку, и она, съехав в сторону, упала у его колен. И тогда, дотронувшись без перерыва до струн самим плектром, впрочем, все еще покрытым чем-то у своего основания, музыкант поплыл в пространстве. Или, скорее, само пространство потекло вокруг него. Казалось, протяни руку – коснешься звука, и он обхватит тебя, понесет, может быть, своим потоком, неспособным вырваться из закрытой комнаты, а возможно – окружит и задушит, как удав. Ощущаемый целостной массой звук все же просачивался сквозь жирные щели, трещины, плохо подогнанные бревна и ставни, а выбравшись на свет солнечный – шипел, дымился, расслаивался.
Все кругом полнилось этим неизменным, однообразным, нарочито нечеловеческим гулом. Больше, чем нечеловеческим, просто невозможным в природе ревом.
И вдруг в темноте, чуть отступавшей перед стоявшей у ног музыканта свечой, появился свет. Сперва сидевшие позади не уловили откуда, и лишь секунды, или минуты, или часы спустя, когда свет уже озарил пятнышками белесыми стены, они поняли, что источает его их собственная маленькая дочь, хрипло стонущая на полу. Крошечные, как светлячки, белые горошинки вспухали где-то у нее под кожей, плавали там, волновались. Спустя какое-то совсем неопределимое по ощущениям время светлячки эти потекли вдоль всего тела девочки – из ног, из рук, из живота – вверх, к горлу, к лицу, и стали высыпать наружу маленькими стайками через нос, уши, приоткрытый болезненно рот. Как пчелиный рой, они, закручиваясь вихрем, поднимались к потолку и немного зеленели там, рассыпались, растекались вверху как вода, что перепутала землю с небесами. Девочка затряслась и громко застонала, а звук от инструмента приобрел масштаб такого вселенского гула, что затрещали стены, задвигались, стали выгибаться наружу, будто маленький домишко переполнился этим гулом дальше некуда и вот-вот грозился лопнуть. Но вместо того, чтоб рассыпаться на части, он начал расширяться. То есть казалось, что он расширяется. Стены раздавались в стороны. Занавешенные ставни двинулись прочь от сидящих, будто те оказались в лодке, уплывающей от берега и его огней. И заволновался, забултыхался пол. Пространство, темное и душное, теряло ясность форм. Так нарисованное на песке стирают раз за разом набегающие волны.
То белые, то ярко-зеленые светлячки, заполнив собой все вокруг, весь мир от основания до гибели, завертелись друг вокруг друга и принялись собираться в громадный глубок, будто обволакивавший их гул инструмента не давал им вырваться наружу, кружил их в себе. Стены, пол, воздух – все вибрировало, еле заметно, но с умиротворяющим постоянством…
И тогда что-то случилось.
Никто поначалу не понял – что, даже музыкант не успел сообразить. Что-то стукнуло, что-то глухо ударилось, и стало как-то сразу неправильно… Целые секунды спустя он понял, что откуда-то с полатей свалилась к его ногам деревянная ложка – хотя он просил убрать все, что может сдвинуться – и, упав, погасила свечу.
Женщина ахнула. Слишком громко.
Удар ложки и женский голос разрезали гул инструмента, вспороли пространство и клубок выпорхнувших изо рта девочки светлячков. Те дернулись, да так резко, что затрещало все! Клубок разорвался сперва на части, а потом части эти, налившись инфернальным красным светом, завертелись вокруг себя, стали собираться в единую плотную массу, в одного исполинского светляка. Мечущаяся вокруг него крошечная мошкара набросилась на людей тысячью пчел. Брызнула кровь!
Музыкант вздрогнул от неожиданности, сбился ритм, звуковая волна сорвалась, рассыпалась и осколками исполосовала пространство, затарабанила по стенам. И сквозь разорванную ткань мира полезло в него что-то потустороннее… Сквозь щели в полах, сквозь дырки в стенах и разрывы в потолке – отовсюду разом поползли черно-коричневыми угрями извивающиеся, длиннющие волосатые пальцы. А на концах их – когти, змеящиеся, гнутые, острые. Пальцы, сотни пальцев хрустели костяшками и ломали все вокруг себя, тянулись к людям, к темноте и к клокочущему, красному разъяренному клубку. И, как и он, когтистые пальцы эти сияли странным огнем, который вроде бы и светится, а не светит.
Музыкант сделал какое-то быстрое движение ладонью, и составной плектр вывалился на пол, а на его месте тотчас появился новый, поменьше, белый, твердый, как из слоновой кости. Все это время он прятался где-то между средним и безымянным пальцами – на всякий случай.