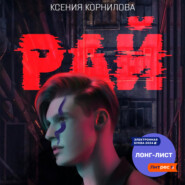По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дьявол носит… меня на руках
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На кровать упала покрытая пылью коробка. Заглянув под крышку, Ронни удивленно перевел взгляд на Криппи.
– Что это за дерьмо?
– Фотокамера, – обиделся тот. – Староватая, но рабочая. Оторвал на блошином рынке.
Фотокамера выглядела не просто старой, а доисторической. Хотя, возможно, ее старили наклеенные по бокам бумажки с непонятными символами.
– Рабочая? – с сомнением протянул Ронни, навел объектив на Криппи, но тот замахал руками и спрятался за дверью – жутко не любил попадаться даже в случайный кадр.
– Ну, я погнал. До скорого, – проблеял он из коридора и смылся.
– Камера, – хмыкнул Ронни. Хотел, было, закрыть коробку и зашвырнуть под кровать, но вдруг передумал. Делать все равно нечего, да и, стоило признать, мать была абсолютно права: если он не найдет себе занятие, то просто сойдет с ума или выбросится из окна – хотя с первого этажа лететь недолго, зато поучительно. Если это старье хоть на минуту поможет отвлечься от боли – это все, что сейчас было так необходимо.
Первой в кадр попалась дворовая собака – жуткое чудовище с патлатой шерстью и беззубой пастью. Она взвизгнула, поджала поеденный блохами хвост и убежала, скуля на всю улицу. А Ронни вдруг впервые за много дней почувствовал забытое облегчение – так чувствует себя человек в здоровом теле, без боли, разрывающей мышцы и связки в клочья. В голове прояснилось, вспомнилась даже девчонка, с которой он познакомился накануне в баре. Вдруг захотелось пройтись – хотя бы до конца улицы, всего-то мимо пары домов.
– Сынок! Ты куда? – высунулась с крыльца мать, как только услышала скрип калитки.
– Я скоро, – отмахнулся Ронни, кое-как справляясь с костылями и при этом держа камеру в руках.
– Но…
Она что-то говорила или даже кричала, возможно, умоляла вернуться, чтобы не дай бог не подвернуть поломанную ногу. Но он не слышал. Он чувствовал ветер на лице и мелкие песчинки с пыльной дороги, забивающиеся в глаза. Кожа покрывалась мурашками, а мышцы приятно растягивались и сжимались, перенося затекшее от долгого лежания тело дальше по улице. Пусть не так далеко, как хотелось.
Он успел дойти до конца соседского забора, когда поломанную ногу скрутило новым витком боли. Зарычав, Ронни согнулся, выронил камеру. И тут же, пытаясь поймать ее, упал на землю, зарывшись лицом в смешанную с грязью траву. Ему пришлось приподняться, подползти к забору и только потом начать снова дышать.
– Чертова нога, – оскалился Ронни, прикрыл глаза и пошарил рядом с собой в траве. Нащупав обклеенный непонятными символами прохладный корпус камеры, он потянул ее к себе и, обессилев окончательно, едва умудрился положить на колени.
– Эй, ты в норме?
Грубый пропитый голос раздался внезапно, когда так хотелось тишины.
– Да, я… – Ронни открыл глаза и уставился на осунувшееся лицо соседа из того самого дома, у чьего забора решил отдохнуть и набраться сил. – Мистер Симонс. Здравствуйте.
– Ты этот, что ли? – патлатая, совсем как у его собаки, голова мотнулась в сторону дома, где на крыльце уже виднелась тень миссис Райт.
– Ага. Рональд.
– Ну да. А чего лежишь? Пьяный? – мужик облизал губы.
– Нет. Нога. Болит, зараза.
– Так это… помочь, что ли?
– Нет. Я… Сейчас, чуть-чуть посижу. И пройдет.
– А… ну, ты это… – мужик подозрительно осмотрел незваного гостя и уже собирался уходить, когда заметил камеру. – А это что за хрень?
– Это? Фотокамера. Хотите, щелкну?
– Ну… это… давай.
Мужик выпрямился настолько, насколько позволяло стянутое тугими мышцами тело, подбоченился и постарался улыбнуться так, чтобы не было видно черных дыр между оставшимися зубами.
Щелчок. Раздался крик. Мужик упал рядом, в ту же грязь и траву, и завыл.
– Эй, что с вами? – подполз к нему Ронни и только потом заметил, что боли снова нет. Исчезла. Испарилась.
– Живот. Сука. Скрутило так…
– Я… я вызову скорую, – неуверенно пробормотал Ронни, прислушиваясь к своим ощущениям, оглушенный внезапным осознанием и стуком разогнавшегося до любимой скорости сердца.
– Не надо, пройдет, – отмахнулся мужик и, кое-как поднявшись, согнувшись почти до колен, поспешил в дом.
К ним уже бежала миссис Райт, размахивая кухонным полотенцем.
– Сынок, что случилось? – затрепетала она, бросаясь то к Ронни, то к быстро удаляющемуся соседу. – Подрались?
– Что? Нет. Я упал. А мистер… говорит, живот заболел.
– А… а… живот…
Ронни быстро поднялся – он знал, что боль скоро вернется, – поднял камеру, костыли и заторопился домой. Мать едва поспевала за ним.
Боль вернулась только на следующий день, когда Ронни уже устал ждать и, было, решил, что навсегда простился с ней. Колючая, тянущая, выматывающая, она мешала думать и – тем более – принимать решения, о которых потом не пожалеешь. Жалеть сейчас получалось только себя.
Высунувшись из окна на улицу, Ронни ждал. Рядом ждала фотокамера, ухмыляясь незнакомыми символами. Во дворе соседнего дома появилась женщина. Пышногрудая и пышнозадая, затянутая в цветастое платье, она курила, стоя на крыльце, и с сожалением разглядывала засохшие цветы, на которые, очевидно, никак не хватало времени.
Щелчок. Еще один. И еще.
Женщина закашлялась, а Ронни застонал от удовольствия – боль ушла, оставив его в блаженной бесчувственности. Он не видел, как соседка схватилась за горло, как, заваливаясь на бок, убежала в дом. Не слышал звуки сирен машин скорой помощи. Он спал.
И не видел, как сестренка, заглянув в комнату, заинтересовалась фотокамерой и странными символами.
Проснулся Ронни под вечер, когда уже стемнело. В доме стояла тишина. Она обескураживала и обволакивала неприятным предчувствием.
– Ма?
Ни звука.
Кое-как справившись с костылями, Ронни вышел из комнаты, добрел до гостиной, то и дело натыкаясь на углы и спотыкаясь о скомканный ковер. Родителей он увидел издалека – оба лежали на полу, распластавшись у продавленного дивана, прикрытого клетчатым пледом.
– Ма? Отец?
Дурацкая боль снова скрутила ногу, дробя кости в крошку. Но теперь это не имело никакого значения.
– Ма! Отец!
– Ронни…