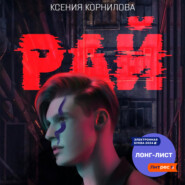По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дьявол носит… меня на руках
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он снова завыл, надеясь, что соседи спишут всё на соседскую собаку – та вечно надрывалась по поводу и без. Так почему ему нельзя?
Должно быть, он отключился от боли или просто заснул, как только стало чуточку легче. Когда открыл глаза, за окном была тёмная ночь. Ковер всё так же пах пылью и лекарством, только теперь добавился запах его собственной рвоты.
Боясь пошевелиться, чтобы не разбудить уснувшую боль, Джейден открыл глаза и, насколько возможно, обвёл взглядом комнату: светло-бежевый кожаный диван, в углу – мягкое кресло с накинутым пледом. Там жена любила сидеть вечерами, что-то писать либо от руки, либо тарабаня по клавишам лэптопа. От кресла тянулось окно, кое-как прикрытое занавесками. Всё, больше ничего не видно.
Длинный вдох, стараясь не раздувать живот, такой же длинный выдох. Смутное беспокойство скребло цепкими лапками, стягивая сон с уставшего тела.
Почему дома так сладостно тихо? Почему «голос совести» до сих пор молчит?
Джейден разлепил ссохшиеся губы, сплюнул налипшие ворсинки ковра, провёл языком по шершавым зубам. Как непривычно было ощущать себя настолько мерзко здесь, где он целых триста двадцать дней в году был примерным семьянином.
Он хотел было позвать жену по имени, но вдруг догадался, что она может спать. Пришла поздно, увидела благоверного в луже блевотины на ковре… Ведь теперь не докажешь, что всё это из-за адской боли, разрывающей внутренности на тряпки. Он не пьяный. Да и не в его это стиле – напиваться до рвоты.
Стараясь сосредоточиться на успокаивающем звуке шелестящих шин, приглушённом закрытыми окнами, Джейден полежал ещё минуту или пять, а может, целый час. Наконец собрался с силами, чтобы встать. Неловко, пошатываясь, цепляясь за диван и запинаясь за развязавшиеся шнурки.
«Пора бросать», – вырвалась-таки уродливая мысль, ударив по самолюбию и уверенности в том, что «всё в порядке, у меня нет проблем».
– Не было такого, – пробормотал Джейден на своё же немое возражение: «Нет проблем, кроме блевотины на ковре и раскуроченных внутренностей». – Не. Бы. Ло.
В гостиной никого. Выглянув в коридор, он прислушался, наивно полагая, что дыхание любимой женщины сможет услышать в любом состоянии.
Тишина. На кухне – никого. И в спальне тоже. Пустая квартира в кои-то веки дышала таким непривычным молчанием, какого он не помнил за все семь лет, что они прожили в этом доме.
– Несса? – еле слышно позвал он, то ли радуясь, то ли тревожась. Агнес Аллард никогда не позволяла себе не ночевать дома. Разве что… были те самые сорок пять дней в году, пока Джейдена можно было по праву считать прообразом кота Шрёдингера: никто, даже он сам, не знал, жив он или мёртв.
Он уже собирался завалиться спать, когда увидел мертвенно-белый листок бумаги на кухонном столе:
«Не смогла дозвониться. С тобой свяжется мой адвокат».
Как много слов, чтобы объяснить одно единственное – развод.
Положив листок обратно на стол, Джейден достал телефон, отключил авиарежим и нырнул в последние вызовы. Как странно. Контакта с именем Несса там не было. Когда они разговаривали в последний раз?
Неудобное, словно неразношенные туфли-маломерки, состояние не отпускало. Он попытался ощутить хотя бы понятную боль, раскурочившую внутренности, но ничего не чувствовал.
Проходя мимо прихожей, Джейден заметил порванный пакет с пустой книгой, испачканной его пьяным бредом и нелепым рассказом про собаку, написанным детской рукой. Сейчас он вспомнил ту лохматую морду в колтунах, из пасти которой свисали липкие слюни. Мерзейшее создание.
Пальцы, перепачканные засохшими кусочками рвоты, сами потянулись за ручкой. Он не был пьян, но чувствовал себя жалким пьянчужкой с одинокого, наводящего смуту стула в покорёженном проёме дверей заброшенного дома.
Плотину запретов сорвало. Две субличности, уживающиеся в одном теле, перемешались, спутались, как провода от наушников. И из них родился кто-то третий.
Он не знал, что делать со своей зависимостью. Не мог с ней жить. Пытался изо всех сил, сдерживая ежедневные, ежеминутные позывы, постоянно держа в уме заветное «завтра», когда в очередной раз позволит себе сорваться. Обещал себе: «Давай не сегодня. Завтра».
Пустота внутри разносила эхом: «Завтра, завтра, тра… тра…». И эти глухие отзвуки задевали натянутую до предела тетиву самообладания.
Он так и не научился жить со своей зависимостью, каждый день проживая в борьбе. Чувствуя, что его собственный мозг воюет на стороне врага, пытаясь убить своего невольного раба.
Но страшнее всего – он не мог об этом никому рассказать. И не придумал ничего лучше, как начать писать. Для себя, исключительно для себя. С тайной надеждой, что когда-нибудь кто-то из близких, тех, кого он уже обидел и обидит ещё бесчисленное количество раз, сможет понять.
На прощение рассчитывать было глупо.
Утро начиналось тогда, когда организм переставал содрогаться от рвотных позывов при одной мысли что-то закинуть в рот. По крайней мере, Джейден Аллард отмерял свои дни с этого сакрального момента и до мгновения полного забытья, когда проваливался в полусон-полубред, держа в одной руке ручку, а в другой – узкое, обтянутое фольгой горлышко бутылки.
Прошла неделя с того момента, как он вернулся из заброшенного дома в отвоеванную прощальной запиской от «голоса совести» квартиру. Всё это время он ни разу не появился в офисе, сказавшись больным. Удобно. Надёжно. Не стыдно.
Практически всё время, когда он не был занят наблюдением за подгоравшими на сковороде макаронами с сыром из промороженной картонной коробки, он писал. А скорее, упивался познанным на металлических пружинах старой кровати под звуки проливного дождя состоянием писателя.
Сложно оценить, получалось хорошо или плохо. Некоторые фразы приходилось вымучивать часами, выкорчёвывать, словно коренные зубы из кровоточащих дёсен, боясь перенести на бумагу, чтобы зря не марать девственно чистые листы.
Можно было, конечно, сесть за лэптоп или вбивать буквы прямо в телефон, но бездушные детища прогресса лишали всякого вдохновения. Затыкали рот, превращая в такую же бездушную оболочку, которой, в общем-то, нечего сказать этому миру.
Вечером в субботу текст был дописан. Короткий, едва растянувшийся на две страницы, он оставался загадкой даже для самого автора – перечитать от первого слова до последнего Джейден не решался.
Зато, когда впиталась в бумагу точка последнего предложения, он почувствовал, как внутри что-то оборвалось. Натянутая тетива самообладания больше не дрожала от малейшей мимолётной мысли, безвольно повиснув и открыв путь чему-то новому, доселе неизвестному.
Зудящую пустоту затапливало расплавленным оловом ощущение чего-то неотвратимого, что непременно вот-вот ворвётся в жизнь, сметая с дороги батальон пустых и недопитых бутылок.
Как уснуть, когда ты вроде ещё не устал, но совершенно не знаешь, чем себя занять?
«Под мухой»
Не сказать, что эта гадкая муха появилась внезапно. Скорее, росла вместе со мной, перевоплощаясь из личинки, отложенной в моём мозгу или передающейся по наследству. В детстве невозможно было расслышать слабое жужжание – слишком много мыслей: о воздушном змее, чей хвост бьёт в лицо, пока не поднимется высоко-высоко, потерявшись меж облаками; о шоколадном мороженом с клубничным сиропом, которое щиплет язык и нёбо холодом и остаётся сладкой корочкой у краешков губ до самого вечера, пока мать не заставит почистить зубы перед сном.
Впервые я её услышал, когда мне только исполнилось семь. За новогодним столом, улучив момент, когда взрослые увлеклись пустыми разговорами, я утащил стакан с притягательно жёлтыми остатками чего-то приторно сладкого. Капля попала на язык, потом вторая. Я выпил всё до дна и слизал языком странную жидкость со стенок, куда мог дотянуться. Рот обволокло сладостью, а мозг – подозрительной, никогда ранее не слышимой тишиной.
И в этой тишине через пару секунд я услышал едва уловимый шёпот, похожий на шелест банкнот, которые отец любил пересчитывать, заперевшись у себя в кабинете. Конечно, он не подозревал, что я прячусь под столом, прижав колени к груди, сжавшись так сильно, чтобы висящий на самых кончиках пальцев домашний тапок в серо-синюю клетку не дотянулся до меня.
Тогда никто не заметил этой маленькой шалости. А я стал осознавать, что каждый день стремлюсь убежать подальше: вброд через небольшую темно-рыжую речку, до поля, усеянного летом высокой травой, где стрекотали кузнечики и кололи меня своими острыми лапками, стоило остаться без движения на пару минут. Того и гляди проткнут дрожащие веки.
Я искал тишину, а находил только гул, шум, визг, стрекот, шёпот, лязг… И только годам к двадцати понял, что этот гул сопровождает каждого человека всю жизнь – невозможно остаться в тишине. Даже заткнув пальцами уши, ты слышишь, как бежит по сосудам кровь и пульсируют в каждой клеточке тела отзвуки сердца.
Через год после первого появления мухи какой-то незнакомый мужик, назвавшийся моим дядюшкой Тэдом, сунул мне стакан чего-то презрительно шипящего – так лимонад шипит на тебя и колет любопытный нос. Запах сухой и кисловатый – так пахнет намазанный апельсиновым джемом тост, только чуть горче, неприятнее.
Я не хотел это пить, поморщился, зажмурился от взрыва смеха и летящих из разинутой пасти «дядюшки» капелек липкой слюны. И снова услышал тонкий шелест мягких крыльев в мозгу.
Это гул электричества или потрескивание свечи, оставленной матерью у иконы? Это шипение в трубке телефона или шкворчание масла на сковороде, где подрумяниваются искрящиеся жиром котлеты?
Годам к двадцати, кажется, я начал её понимать. С каждым годом моего полного подчинения муха всё сильнее билась о стены моего сознания, и крылья вибрировали с такой силой, что мысли расплывались чернилами по мокрой бумаге.
Муха умоляла, просила, требовала, и отказывать не было никакого желания, да и смысла тоже. Она была громче всех и всего: трепетного шёпота обнажённой подружки, визгливых обличений матери, свиста ремня, с которым с некоторых пор любил встречать меня отец. Он даже не осознавал, насколько глупо выглядит со своим вывалившимся животом над отвисшими коленками старых спортивных штанов.
– Ты что, тупой? – бросал я отцу сквозь нечищеные зубы и обводил распухшим языком горьковатые губы.
Уходил в подвал, где с некоторых пор оборудовал вполне достойное лежбище, и наслаждался тишиной. Когда муха была довольна, я мог даже поспать, избавленный от необходимости в миллионный раз переслушивать собственный навязчивый монолог.
Если бы только я умел говорить сам с собой о чём-то более увлекательном. Глядишь, муха бы заслушалась моих рассуждений и притихла, поражённая внезапным прозрением. Но разве человека учат, как правильно оставаться с собой наедине? О чём вести беседы? Спорить? Многозначительно молчать? Нет. Не берусь судить за всех, но в моей голове всегда была такая помойка, что появление мухи нисколько не удивляло.
Иногда хватало сил, чтобы бороться с ненавистным жужжанием. Это был новый человек, новая мысль или взгляд на себя в отражении витрин – никогда не знаешь, что именно схватит тебя за палец, почти увязший в трясине, поглотившей твое тело целиком, и потянет на воздух, давая сделать хотя бы один – последний? – вздох.