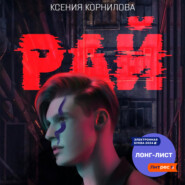По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дьявол носит… меня на руках
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Привет, ма.
– Я взяла с собой бутерброды. С вареньем и арахисовым маслом… – «Как ты любишь», хотела добавить, но сдержалась. Откуда ей знать, что он любит, когда ему давно уже не пять и даже не пятнадцать.
Сдерживаться мать не умела, поэтому оставшуюся дорогу с лихвой компенсировала три проглоченных слова словесным поносом, изливающимся на приборную панель и лобовое стекло. Она болтала обо всём, словно только в этом находила спасение. Словно только это могло помочь справиться с безудержным желанием выплеснуть куда-то внутреннее напряжение.
Приходилось терпеть. Глотать пресную информацию о незнакомых или просто неинтересных людях, сдерживая рвотные позывы. И в который раз за это бесконечно длинное утро перед глазами замаячила баночка тёмного пива.
– Ма, а зачем ты к нему ездишь? – вклинился Джейден, неожиданно даже для себя самого.
– Что? – большие, чуть прикрытые нависшими от времени веками круглые глаза уставились на него.
– Зачем ты ездишь к отцу? Вы, вроде, не слишком-то ладили.
Она часто-часто заморгала, как будто пытаясь сбить с ресниц налипшие капельки воды. Отвернулась, посмотрела на улицу, проводила взглядом раннего пешехода, переходившего дорогу прямо перед их капотом, перевела взгляд на раздувшуюся от бутербродов – и, хотелось верить, бутылки водки – сумку. Пигментные пальцы поправили края вязаной кофты, ровняя их в одну линию.
– Прости, – поспешил вклиниться в немое представление то ли грусти, то ли обиды, то ли скорби Джейден.
– Ничего, – мать улыбнулась, отвернулась и притихла.
Остаток пути проделали молча.
Бросив машину на парковке, Джейден подхватил мать под руку, нащупывая исхудавший локоть, и повёл через высокие резные ворота по вымощенной камнями дорожке, петляющей среди могил. Начал накрапывать хлипкий дождик, серебря давно остывшие каменные плиты и памятники, создавая совершенно необыкновенную атмосферу. Именно такую и хочется видеть на кладбище, чтобы не замешать солнечные дни с горем утраты и мыслями о собственной скорой кончине.
Он не знал, куда идти. Смотрел по сторонам, повинуясь движению матери, направлявшей его по заученному маршруту. Пытался читать надгробные надписи, невольно задумывался о том, что напишут на его собственной могиле – если он её удостоится. Он старался не смотреть на даты – страшно было в уме отнять одну от другой и получить какие-нибудь жалкие семнадцать, десять лет или три года.
И хоть Джейден не слишком боялся смерти – иначе давно бы перестал играть с ней в догонялки, – а иногда и вовсе не считал этот древний как мир переход из одного состояния в другое чем-то особенным, после недельного запоя и жутко короткого рассказа, в муках родившегося из-под его руки, почему-то не хотелось думать о том, что могло бы всколыхнуть его внутреннюю стабильность, законсервированную алкоголем.
– Пришли, – прошелестела мать, выскользнула из его руки, бросила сумку на низкую лавочку, примостившуюся у оградки, и подошла ближе к памятнику, стирая одной ей видимые частички неприемлемой грязи.
«Чушок», – наверное, думала она про себя, расплываясь в нежной улыбке и едва сдерживая слёзы.
Джейден присел на лавочку, вытянул ноги. Взгляд метнулся от матери к её раздутой сумке. Он ни за что в жизни не унизит её, попросив налить стопку водки, но сейчас ни о чём другом думать не мог.
Хотя, признаться честно, думал об этом скорее по привычке, совсем не испытывая ни малейшего желания выпить. Такое с ним случалось нечасто.
Он знал, что значит сдерживаться. Он знал, что значит отпустить поводья. Но не помнил уже, когда совершенно искренне мог бы отказаться от предложения выпить.
– Будешь бутерброд? Я захватила твой термос.
– Буду, – кивнул Джейден, вытягивая шею и заглядывая в приоткрытую сумку, надеясь услышать знакомый дзынь.
Зашуршали пакеты, скрипнула крышка термоса. Только сейчас он заметил, что стопка, всегда стоявшая на самом краю памятника, пропала. Он пошарил взглядом в пределах оградки – ничего. Надо бы спросить, но язык не поворачивался.
«Сейчас, прожую…».
Арахисовое масло прилипло к нёбу, варенье забилось косточками между зубов, ненавязчивой болью намекнув, что пора сходить к стоматологу. Пришлось выпить пару глотков кофе, прежде чем он смог заговорить.
– Ты ему не нальёшь?
– Чего? – не оборачиваясь, переспросила мать.
– Ничего. Прохладно тут. И дождь… усилился.
– Чай не сахарный, сынок. Ты давно у него не был.
– Ты думаешь, он об этом знает?
– Я об этом знаю.
Действительно. Не ради мёртвого отца он приехал сюда утром в воскресенье.
Они снова молчали. Мать одними губами что-то шептала, видимо, не смея при нём выливать всё то, что накопилось за неделю и что так хотелось закопать возле могилы, надеясь похоронить навечно. Джейден хмурился, тут же тёр костяшкой большого пальца правой руки складку на лбу, а потом снова хмурился.
Он пытался вспомнить что-то об отце, но почему-то воспоминания, такие яркие ещё вчера, подёрнулись мутной дымкой, так что разглядеть что-либо стало невозможно.
Они ушли спустя час. Молча прошли лабиринт к воротам, молча забрались во внедорожник, молча допили – по-честному, по глотку – успевший остыть кофе, молча слушали усилившийся дождь, барабанящий по лобовому стеклу и разбегающийся в стороны из-под настойчивых шин.
У калитки мать обернулась, затараторила что-то неразборчиво, проглатывая целые слова – намолчалась! Позвала на завтрак, покачала головой на отказ, махнула рукой куда-то в сторону дома, лепеча что-то о старом покосившемся сарае. Дождалась прощального «Пока, ма», и осталась стоять, подобно соляному столпу, пока машина не скрылась за поворотом.
Только полдень. Ещё столько часов до вечера, а Джейден совершенно не знал, чем их занять. Он не хотел возвращаться домой, не хотел заглядывать в холодильник в надежде, что там осталось хоть что-нибудь в початой бутылке вина.
Он с трудом представлял, чем займётся – воскресным его временем раньше распоряжалась жена.
– Несса, – прошипел он, выруливая на скоростную магистраль.
Отвлёкся, не посмотрел в сторону, задумавшись о той, кому даже не соизволил перезвонить, чтобы хоть как-то исправить неисправимое.
Раздался грохот, скрежет металла – в бок со стороны водительского сиденья въехал грузовик, сминая дверь и кроша стекло. Осколки бросились врассыпную, запутались в волосах, смешались с кровью, расчертили на лице дьявольские символы. Джейден почувствовал удар в бок, что-то разорвало кожу на плече, оголив белоснежную кость. В нос ударил запах железа, бензина и горящих покрышек.
Он не успел ничего увидеть или подумать. Какая ирония – провалиться в чертову бездну с именем, пусть и любимой, но бывшей на устах.
Какой бы вышел рассказ!
***
Следующие пару недель выпали из жизни, скомкались в один миг, в одно дрожание век. Джейден не видел ни света, ни белых коридоров, ни туннеля или зовущего за собой седовласого старца. Не подходил к подпирающим бесконечность литым вратам, у которых сидят на стертых до костей коленях страждущие, пытаясь сочинить новую историю своей жизни, подобрать слова, способные обнулить все попытки при жизни просрать свою бессмертную душу. Как он сам – мучительно вытаскивал из себя буквы и фразы, когда пытался написать свой первый рассказ.
Вместо этого Джейден просто зажмурился от боли в плече и тут же открыл глаза, уставившись на скудный свет, полосками пробивающийся из-под грязно-серых жалюзи. Окно было таким крошечным, что казалось невозможным высунуть из него даже ладонь, чтобы приветствовать таких же, как он сам, – оставшихся жить.
Лучше бы он остался в темноте. Первые несколько дней Джейден только и делал, что отчаянно, до боли в глазах, жмурился, в надежде снова выпасть из пульсирующих и терзающих болью мгновений, растянувшихся на целую вечность. Разве он когда-то мечтал о бессмертии? И если это оно, в пору заключить контракт с дьяволом, лишь бы выбить себе место у пылающего огнем котла. Всё лучше, чем чувствовать каждую клеточку тела, взрывающуюся ядерным взрывом под кожей, превращая плоть в кровавое месиво.
Страшно было даже пошевелиться – вот-вот лопнет тонкая плотина, удерживающая того, кто теперь лишь отдалённо напоминал человека, в более или менее приличном виде.
Отвлечься не получалось. Помогали только лекарства, поступающие в раздутые синие вены по прозрачной трубке, приколотой к сгибу руки. Но их давали не так уж часто, и всё остальное время – примерно двадцать два часа и десять минут каждый сутки – Джейден пытался договориться с собой и с тем, кого называл «Эй, на небесах», что сделает всё что угодно, лишь бы это поскорее закончилось.
Но ничего не заканчивалось.
Сложнее всего было переживать посещения матери. Пустые, прозрачные глаза, и без того выплаканные за его бурную молодость, прожигали насквозь, буравя дыры в измученном теле. Она по привычке болтала без умолку, вдруг вскакивала, убегала – насколько хватало сил в старых, изъеденных артритом ногах. Возвращалась с дрянным печеньем, продающимся на первом этаже в столовой, тихо крошила его в руках, даже не удосуживаясь ссыпать крошки в рот. А потом уходила на день или два, чтобы снова вернуться.