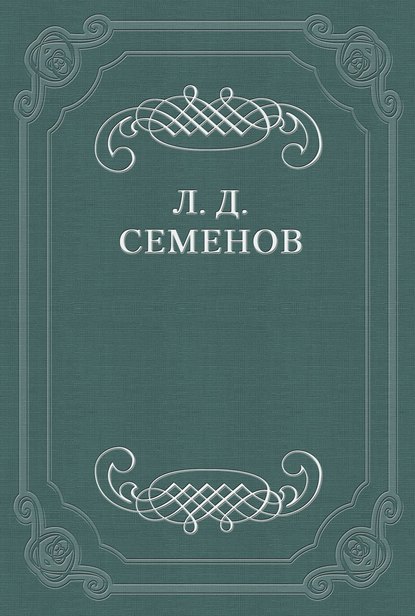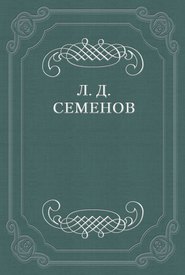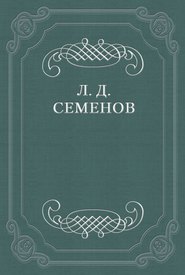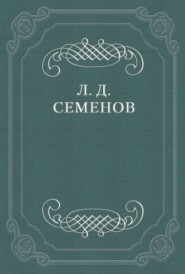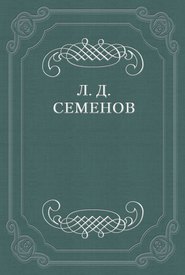По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Проклятие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этапке жарко и душно. Низенькая, маленькая комнатка оклеена синими обоями и вся пропахла человеком, его потом и смрадом.
На нарах неподвижные фигуры приведенных раньше нас. Слышен носовой свист и храп. Мы ждем. Двенадцать часов ночи, час, два. Черные окна с решетками глядят зловеще, неприютно. Солдаты за дверью закусывают, смеются, хлопают себя по коленям и рассказывают все свое – о дневальных, об офицерах…
К конокраду, переодевавшемуся жандармом, пришли на свидание. У них такие же умные, выдержанные лица, как у него.
– Ну так ладно, Иван Микитич… – слышу я голос. – Значит так?
– Ладно, ладно.
– А как придешь в Толстый Луг, так, значит, к Игнатову на двор, Родион Васильича спросишь, там лошади… берегись. Ну да знаешь, что тут толковать-то.
– Ладно! – перебивает нетерпеливо конокрад.
Солдат следит за ними.
– А вот ведь я погляжу, голова-тот у тебя, Иван Микитич, в картузе! – начинает опять загадочно первый. – Простудишь. Возьми-ка мою шапку, а?
Они меняются шапками. Солдат отводит глаза и молчит. И оба говорившие точно облегченно вздыхают.
– Ну, прощайте, значит.
– Прощай, Иван Микитич.
– Лукерье Афанасьевне поклон.
– Уж чего тут.
Конокрад оборачивается к нам и плотнее надвигает на лоб свою шапку. Горит и молчит…
Мужик на нарах рассказывает о том, как бежал весной из Олонецкой губернии, куда был сослан за политику. Теперь ссылается вторично.
– Иду я, иду. Все лес и лес! – рассказывает он. – Господи! – думаю. Да что ж это? неужели здесь помирать придется! Конца краю ему нет! Брюхо подвело! Это я уж, значит, третьи сутки иду. Кушак туже подвязал. Иду опять. Сосна да сосна. Что тут делать?
Но вдруг спохватывается и озирается кругом.
– Что бы это значило? значит, не придет.
– Да верно ли ты писал ей?
– Писал-то верно. А вот она оказия-то какая! И ведь забрали-то без жены. Она в эту пору вышла, так и не попрощались… – поясняет он нам.
– Ну, до весны, значит. А там опять лататы[1 - Лататы — обычно в просторечном выражении «задать лататы» – убежать стремглав.]. Он машет рукой и все одобрительно смеются.
Другой продрогший и иззябший парень рассказывает о Вологодской губернии, как гоняют зимой по этапам. Проходят в день верст 25–30, ночуют в таких же этапках, как наша.
Все оглядываются и смотрят на синие стены кругом. Там, значит, в снегах, далеко такие же маленькие, душные комнатки, как эта, тоже освещенные тусклою лампой среди лесов и болот, и в них гонимые люди… Речи понемногу стихают, глаза слипаются, дремлется.
Кто-то тихо толкает меня.
– Извините, господин. Это я по нечаянности у вас давеча взял. Не сообразил… – шепчет мне конокрад и сует в руку монету.
Это пятиалтынный, который я дал ему за то, что он нес мои вещи. Он садится вдали. И мне опять хорошо от него. Он – умный и строгий…
Одеревенелые от сна и бессонницы, усталые, мы лезем в темноте в высокий, мрачный вагон. Нас торопят, считают. Кругом фонари, солдаты, рельсы… Вблизи гудит и пыхтит паровоз.
«Теперь к своим!?» – думаю я и забываю сон. «Где они? какие они? с кем столкнусь?» Я так давно не видел товарищей! Так хочется их видеть, поделиться с ними мыслями, впечатлениями, стряхнуть с себя злобный кошмар тупой и бессмысленной жизни в остроге.
Этап большой. Я заметил вагонов пять с железными прутьями на окнах. Значит, будут и товарищи. Может быть, много.
В вагоне тесно, сонно. Я иду, спотыкаясь о чужие ноги и туловища. Всюду храп, сон и звон цепей. Свеча. Чей-то вскрик вдруг прорезывает воздух. На меня вскидываются выпученные, сумасшедшие глаза. Я вижу нос с запекшейся кровью, умную лысину, лицо нежное, барское.
– Убийца-интеллигент, – пронизывает мысль.
– Был… был… да, был… а теперь ничего… Что ничего? – шепчет он безумно и вдруг бухается в ноги.
Рядом кто-то цинично ругается. Гремят цепи.
Арестант-интеллигент ползает передо мной на коленях и хватает меня за полы.
– Ну, был барин, а таперь – хря! – озлобляется на него солдат и толкает ногой.
Тот растерянно подбирается и глядит на меня испуганным взглядом.
– Был… был…
Поезд трогается.
– Где политические? Тут политические? Можно к ним? – спрашиваю я у солдата в дверях. Он спит.
– Да, да. Можно. Можно… – бормочет он устало и провожает меня сонным, тяжелым взглядом… В вагоне душно.
– Вот еще один! – слышу я впереди нежный и протяжный голос.
Передо мной тонкая, прямая фигура девушки в белом… Я протягиваю ей руку. Но она глядит на меня так страшно раскрытыми, точно застывшими в испуге глазами, что рука опускается…
– Что? что-нибудь случилось? – спрашиваю я, озираясь кругом.
Она криво усмехается.
– Ничего, здесь политические.
В отделении тесно. На шесть мест тринадцать человек. Я четырнадцатый. Спят всюду – сидя, скрючившись, на лавках, на вещах, наверху. Поезд качается, и все дребезжит. Девушка стоит, прислонившись к косяку. Лицо у нее бледное, восковое, чуть трепещет при свете фонаря. Глаза серые в измученных синих орбитах смотрят по-прежнему с застывшим испугом. Она уступила место другим и ждет очереди.
– Я старая эсерка. Из Одессы. Ссылают в Архангельскую. Да, на пять лет… – отвечает она односложно, постыло на мои слова и не шевелится. Светлая косичка выпадает из-под платка. Она старается спрятать ее тонкой белой рукой. На лице нетерпеливые складки. Я хочу устроить ее удобнее.
– Не надо, не надо! – останавливает она раздраженно.
Мимо нас протискивается арестант из соседнего отделения, уголовный, и гремит кандалами. Они ходят все время, потому что около нас клозет.