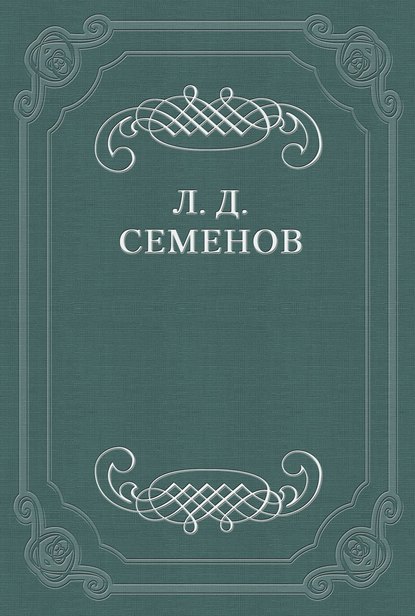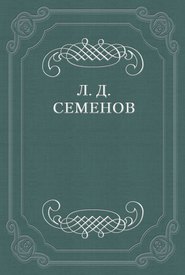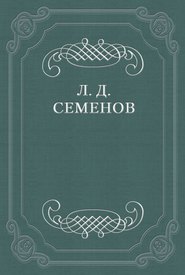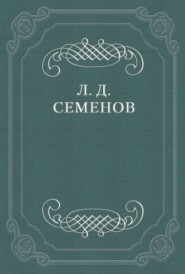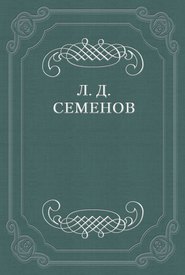По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Проклятие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Другого места нам нет. В клозете большое окно из офицерской, куда глядит все время солдат. Я взглядываю на девушку и не смею сказать ей, что я думаю о том, как она должна страдать здесь. Где уж тут думать об удобствах.
Убийца-интеллигент, безумно выпучив глаза, вдруг останавливается перед нами и шепчет свои безумные слова:
– Был… был… а теперь что? Теперь что? Теперь ничего. Каждый плюнь, толкни… и ничего. Я и говорю, ничего… был… был…
Девушка точно с болью отрывается от него и говорит:
– Тут есть один. Ссылают в Якутку. У него ни белья, ни денег. Считает себя, кажется, анархистом-коммунистом… Чем бы помочь?
– У меня есть белье! – предлагаю я, обрадовавшись движению.
– Так давайте.
Она тоже рада, и мы оба в тесноте на полу разворачиваем мой чемоданчик.
– Так нельзя, товарищи… – протягивает из угла низкий уверенный голос.
– Что нельзя?
– Солдаты не позволяют передавать. Еще отнимут потом. Тут можно передать незаметно, идите сюда, товарищи.
Мы повинуемся.
– Надо найти его узел. Скорее спрятать.
– Я найду! – говорит другая, подымая усталую, растрепанную голову.
Все отделение вдруг оживает.
– Ах, вы не спите?
– Нет, я не сплю. Я все время так сидела, все смотрела.
– Я тоже не сплю. Странно это, чорт возьми! – говорит рядом со мной еврей и тоже помогает нам.
– Надо его будить. Что – он спит? – ворчит кто-то.
– Где его узел?
Рыжая девушка будит анархиста.
– Николай, Николай! Да проснитесь же! Вам белье дают. Надо спрятать.
Она вытаскивает узел из-под его головы, чтобы разбудить его, но голова, не прерывая храпа, падает на скамейку, точно оцепеневшая, и спит. Он совсем молодой, без бороды, без усов…
Я заговариваю о политике. Мне так много хочется рассказать им, узнать, что они? Но все точно удивленно глядят на меня и молчат. Мне становится неловко, точно я заговорил о покойнике в доме, где он лежит.
Ровный голос из угла пробует поддержать разговор. Но девушка нервно перебивает:
– А Левушка-то наш, кажется, спит?
– Тут ссылают мальчика-еврея… – поясняет она мне. – Так я смеюсь, что губернатор отошлет его назад к родным. Куда ему таких младенцев. Но он обижается, все Марсельезу распевает.
– Ему шестнадцать лет.
– Не шестнадцать, пятнадцать, и то врет. «Вчера, говорит, минуло». А сам кораблики рисует. Мне вчера поднес и просил никому не показывать. Ну, вот и он!
Сверху свешивается огромная, золотая копна курчавых волос и светится в блеске фонаря. Лицо мальчика задорно хмурится.
– Вера, я вам задам! Что вы про меня рассказываете. Мало вам от меня влетело.
– Да уж стыдно. Деретесь, как кошка. Он мне все руки исцарапал! – жалуется девушка.
– А… а… а вы кусаетесь. Вцепились в меня, как филин; вот, смотрите, даже кровь шла…
Девушка грозит ему пальцем.
Мальчик скрывается и через минуту раздается сверху бодрое, нежное сопрано:
«Отречемся от дряхлого ми-и-ра,
Оттряхнем его прах с наших ног…»
Поезд гудит.
– Четыре часа уже! – говорит мужчина в углу и закуривает папиросу, старательно пряча огонь от конвойных.
Мы все не спим, мы точно ждем чего-то и сидим, неуклюже, кое-как прижавшись друг к другу. Говорим тихо. Рядом с нами наши враги. Офицер в своем просторном и чистом отделении; солдаты на часах.
– Я уж не буду спать… – говорит кто-то.
– И я, кажется.
– Я тоже не буду… – отзывается молодой еврей против меня и долго кашляет.
– Опять кровь. Каждое утро кровь теперь. Чорт возьми! Что бы это значило? – он улыбается и точно рад этому.
– Ссылают в Олонецкую губернию… – поясняет он мне. – Это всего 300 верст прогуляться пешком из Петербурга. Недурно? А? Кашель, грудь, все это, впрочем, пустяки. Там только поправишься. А как вы думаете, ружье позволят иметь?
Я с удивлением гляжу на его бледное лицо с болезненно-грустной возбужденностью и на узкие руки с синими жилками.
– Да, охотничье, кажется, разрешают… – говорю я.
Он опять кашляет.
– На медведя пойду. Обязательно. Интересно. Я сам ведь южанин. Ничего кроме Тавриды не видел, а теперь увижу тундры, север, леса. Заманчиво, чорт возьми! Я, знаете ли, поэт в душе…
Удушливый кашель прерывает его и опять появляется кровь.