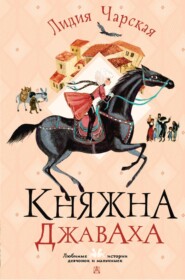По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приютки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Цветущие щечки, блестящие глаза, довольные улыбки вознаграждали благодетельницу Софью Петровну за ее доброе дело.
Дуня поправилась и загорела больше других. Просыпаясь утром от звука пастушьего рожка и мычанья коров, проходившего мимо окон дачи стада, она, как безумная, вскакивала с постели и, подбегая к окну, настежь распахивала его.
– Как у нас! Как у нас в деревне! – лепетала она, восторженными глазами провожая стадо.
И хотя песочные, хвойные приморские Дюны с их мрачно красивым лесом мало походили своим видом на обычную русскую деревеньку, где родилась и провела свое раннее детство Дуня, душа девочки невольно искала и находила сходство между этих двух вполне разнородных красот.
– Скорее бы, скорее окончить школу учительниц. Сдать экзамен, получить место где-нибудь поблизости от нашей деревеньки! – часто вслух мечтала теперь Дуня, углубляясь с Дорушкой в тенистые аллеи леса-сада.
– Мы вместе уедем, Дуняша, ты в учительскую школу свою, я к маменьке, в магазин, открывать мастерскую. То-то радость будет! Совсем измаялась без помощниц моя старушка! – и Дорушкины обычно спокойные рассудительные глазки принимали нежное, мягкое выражение.
Девушка горячо любила свою мать.
* * *
Тихий летний вечер. Давно закатилось солнышко, утонув до утра в побагровевших водах залива. Затихли веселые голоса купающихся на берегу.
Воспитанницы давно отужинали и пропели вечерние молитвы. Напрыгавшиеся за день стрижки ушли спать. Средние с их новой надзирательницей, стройной барышней в высокой модной прическе, заменившей больную Павлу Артемьевну, пошли играть последнюю партию в теннис. Антонина Николаевна со своими старшими уселась на балконе дачи…
– Девицы, давайте петь хором, – предложила Оня Лихарева.
– Сыро стало, голос сядет, – опасливо заметила Любочка Орешкина.
– Сядет, как же! Да что же это? Ты ему, что ли, стул подашь, чтобы сел? – нехитро сострила Паша Канарейкина, у которой ее лисья мордочка стала совсем коричневой от загара за все время пребывания на даче.
– Ну, уж ты не остри, пожалуйста! – отмахнулась от Паши обидевшаяся Любочка. – Я своим голосом дорожу.
– И руками и лицом тоже! – засмеялась Оня. – Загара боишься, молоком моешься и глицерином на ночь руки натираешь. Видали мы!
– Не твое дело! – вспыхнула Любочка.
– Да полно вам ссориться, девицы!
– Петь лучше давайте! Ишь, вечер-то какой!
Девушки откашлялись, и после недолгой паузы их стройные голоса зазвенели в тихом, вечернем воздухе.
Пели: «Выхожу один я на дорогу», и «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», и «Нелюдимо наше море», и «Хаз-Булат удалой», и «Собрались у церкви кареты» – словом, все излюбленные песни старшеотделенок.
– А ну-ка, девоньки, плясовую! Кто во что горазд! – бойко крикнула Оня и, сбежав со ступеней крылечка, уперла руки в боки, запрокинула задорную головку и, поводя плечиками, замерла в выжидательной позе.
– Ах, вы сени, мои сени! – согласно и звучно грянул хор.
Белой лебедкой сначала поплыла Оня, подергивая плечиками, поблескивая глазами. Но по мере того как ускорялся темп песни, все живее и бойче носилась она, помахивая белым платочком над головой.
Быстро-быстро семеня ногами, порхала она с одного конца площадки, разбитой перед крыльцом, на другой, лихо вскрикивая по временам:
– Ой, жарче! Ой, лише! Девоньки, удружите! Милые, не посрамите! Вот и этак, вот и так!
И волчком завертелась на месте.
– Браво! Браво! Молодец, Онюшка! И ловко же пляшешь, рыбка моя!
И нарядная, по своему обыкновению одетая во что-то легкое, белое и прозрачное, баронесса словно из-под земли выросла перед сконфуженными девушками.
– Батюшки мои! – не своим голосом взвизгнула сгоревшая от стыда плясунья и бросилась было наутек…
– Нет! Нет! Не пустим! Не пустим! Куда! Стой! – И высокая фигура Нан преградила ей путь, расставив руки.
В лице Нан было какое-то особенное оживление сегодня. Глаза юной баронессы горели не свойственным им огнем. Нежный румянец рдел на щеках. Ее изменившееся за последние годы, возмужавшее лицо уже не казалось таким сухим, жестким и некрасивым.
Улыбка чаще обыкновенного появлялась теперь на губах девушки и сообщала какую-то новую черту привлекательности этому умному и серьезному лицу.
В то время как баронесса шутила с воспитанницами, ласкала их и оделяла конфектами, имевшимися всегда с нею в ее элегантном мешке-саке, Нан успела пробраться под шумок к Дуне и шепнуть ей:
– Пойдем со мною в плющевую беседку, мне нужно сообщить тебе одну тайну, большую тайну, Дуняша.
И, схватив за руку девушку, она увлекла ее в глубь сада за собой.
Глава шестая
Плющевая беседка, небольшой ажурный домик, весь обвитый гибкими ползучими, как зеленые змеи, ветками плюща, успела приобрести в глазах приюток за их сравнительно недолгое присутствие здесь репутацию вместилища всяких тайн и секретов.
Сюда приходили для того только, чтобы поделиться новостями первой важности с подругой, или задумать проект новой шалости, или просто поболтать и помечтать о будущем, представлявшемся, несмотря ни на что, таким радостным и светлым всем этим бедным девушкам, далеко не избалованным судьбою.
Плющевая беседка находилась над самым обрывом. Из нее можно было видеть всю зеркальную поверхность залива и приморский сестрорецкий курорт. Его крыши и трубы домов выглядывали из-за сплошной стены розовых стволов и зеленых шапок сосен, пихт и елей.
В противоположной стороне синел огромный разлив реки Сестры – большое озеро в восемь верст в окружности, темное, ропчущее, бурное и предательское, похожее на маленькое море.
Не доходя десяти шагов до беседки, Нан неожиданно остановилась и крепко конвульсивно сжала руку своей спутницы.
– Ты слышишь? Ты слышишь, Дуня?
Ее обычно маленькие теперь расширенные восторгом глаза впились в лицо Дуняши… Румянец ярче и гуще прежнего заиграл на щеках.
– Ты слышишь? Слышишь? – прерывистым шепотом снова зашептала она.
Из маленькой дачи, нанимаемой баронессой и ее семейством, слышались тихие замирающие аккорды.
Это молодой барон Вальтер играл на рояле в тихий вечерний час.
Нежные, задумчивые звуки вылетали из открытых окон и неслись в объятия вечера, растворяясь и тая в его мечтательной, заколдованной тишине.
Где-то недалеко чуть слышно рыдало своим отливом море, и синее ясное и высокое небо, тоже околдованное в своем вечном бесстрастии, казалось, слушало роскошную песнь.
В плющевой беседке было сумрачно и прохладно.
Обхватив руками шею подруги, Нан приблизила Дунину голову к своей и зашептала с не свойственным ей оживлением и жаром:
Дуня поправилась и загорела больше других. Просыпаясь утром от звука пастушьего рожка и мычанья коров, проходившего мимо окон дачи стада, она, как безумная, вскакивала с постели и, подбегая к окну, настежь распахивала его.
– Как у нас! Как у нас в деревне! – лепетала она, восторженными глазами провожая стадо.
И хотя песочные, хвойные приморские Дюны с их мрачно красивым лесом мало походили своим видом на обычную русскую деревеньку, где родилась и провела свое раннее детство Дуня, душа девочки невольно искала и находила сходство между этих двух вполне разнородных красот.
– Скорее бы, скорее окончить школу учительниц. Сдать экзамен, получить место где-нибудь поблизости от нашей деревеньки! – часто вслух мечтала теперь Дуня, углубляясь с Дорушкой в тенистые аллеи леса-сада.
– Мы вместе уедем, Дуняша, ты в учительскую школу свою, я к маменьке, в магазин, открывать мастерскую. То-то радость будет! Совсем измаялась без помощниц моя старушка! – и Дорушкины обычно спокойные рассудительные глазки принимали нежное, мягкое выражение.
Девушка горячо любила свою мать.
* * *
Тихий летний вечер. Давно закатилось солнышко, утонув до утра в побагровевших водах залива. Затихли веселые голоса купающихся на берегу.
Воспитанницы давно отужинали и пропели вечерние молитвы. Напрыгавшиеся за день стрижки ушли спать. Средние с их новой надзирательницей, стройной барышней в высокой модной прическе, заменившей больную Павлу Артемьевну, пошли играть последнюю партию в теннис. Антонина Николаевна со своими старшими уселась на балконе дачи…
– Девицы, давайте петь хором, – предложила Оня Лихарева.
– Сыро стало, голос сядет, – опасливо заметила Любочка Орешкина.
– Сядет, как же! Да что же это? Ты ему, что ли, стул подашь, чтобы сел? – нехитро сострила Паша Канарейкина, у которой ее лисья мордочка стала совсем коричневой от загара за все время пребывания на даче.
– Ну, уж ты не остри, пожалуйста! – отмахнулась от Паши обидевшаяся Любочка. – Я своим голосом дорожу.
– И руками и лицом тоже! – засмеялась Оня. – Загара боишься, молоком моешься и глицерином на ночь руки натираешь. Видали мы!
– Не твое дело! – вспыхнула Любочка.
– Да полно вам ссориться, девицы!
– Петь лучше давайте! Ишь, вечер-то какой!
Девушки откашлялись, и после недолгой паузы их стройные голоса зазвенели в тихом, вечернем воздухе.
Пели: «Выхожу один я на дорогу», и «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», и «Нелюдимо наше море», и «Хаз-Булат удалой», и «Собрались у церкви кареты» – словом, все излюбленные песни старшеотделенок.
– А ну-ка, девоньки, плясовую! Кто во что горазд! – бойко крикнула Оня и, сбежав со ступеней крылечка, уперла руки в боки, запрокинула задорную головку и, поводя плечиками, замерла в выжидательной позе.
– Ах, вы сени, мои сени! – согласно и звучно грянул хор.
Белой лебедкой сначала поплыла Оня, подергивая плечиками, поблескивая глазами. Но по мере того как ускорялся темп песни, все живее и бойче носилась она, помахивая белым платочком над головой.
Быстро-быстро семеня ногами, порхала она с одного конца площадки, разбитой перед крыльцом, на другой, лихо вскрикивая по временам:
– Ой, жарче! Ой, лише! Девоньки, удружите! Милые, не посрамите! Вот и этак, вот и так!
И волчком завертелась на месте.
– Браво! Браво! Молодец, Онюшка! И ловко же пляшешь, рыбка моя!
И нарядная, по своему обыкновению одетая во что-то легкое, белое и прозрачное, баронесса словно из-под земли выросла перед сконфуженными девушками.
– Батюшки мои! – не своим голосом взвизгнула сгоревшая от стыда плясунья и бросилась было наутек…
– Нет! Нет! Не пустим! Не пустим! Куда! Стой! – И высокая фигура Нан преградила ей путь, расставив руки.
В лице Нан было какое-то особенное оживление сегодня. Глаза юной баронессы горели не свойственным им огнем. Нежный румянец рдел на щеках. Ее изменившееся за последние годы, возмужавшее лицо уже не казалось таким сухим, жестким и некрасивым.
Улыбка чаще обыкновенного появлялась теперь на губах девушки и сообщала какую-то новую черту привлекательности этому умному и серьезному лицу.
В то время как баронесса шутила с воспитанницами, ласкала их и оделяла конфектами, имевшимися всегда с нею в ее элегантном мешке-саке, Нан успела пробраться под шумок к Дуне и шепнуть ей:
– Пойдем со мною в плющевую беседку, мне нужно сообщить тебе одну тайну, большую тайну, Дуняша.
И, схватив за руку девушку, она увлекла ее в глубь сада за собой.
Глава шестая
Плющевая беседка, небольшой ажурный домик, весь обвитый гибкими ползучими, как зеленые змеи, ветками плюща, успела приобрести в глазах приюток за их сравнительно недолгое присутствие здесь репутацию вместилища всяких тайн и секретов.
Сюда приходили для того только, чтобы поделиться новостями первой важности с подругой, или задумать проект новой шалости, или просто поболтать и помечтать о будущем, представлявшемся, несмотря ни на что, таким радостным и светлым всем этим бедным девушкам, далеко не избалованным судьбою.
Плющевая беседка находилась над самым обрывом. Из нее можно было видеть всю зеркальную поверхность залива и приморский сестрорецкий курорт. Его крыши и трубы домов выглядывали из-за сплошной стены розовых стволов и зеленых шапок сосен, пихт и елей.
В противоположной стороне синел огромный разлив реки Сестры – большое озеро в восемь верст в окружности, темное, ропчущее, бурное и предательское, похожее на маленькое море.
Не доходя десяти шагов до беседки, Нан неожиданно остановилась и крепко конвульсивно сжала руку своей спутницы.
– Ты слышишь? Ты слышишь, Дуня?
Ее обычно маленькие теперь расширенные восторгом глаза впились в лицо Дуняши… Румянец ярче и гуще прежнего заиграл на щеках.
– Ты слышишь? Слышишь? – прерывистым шепотом снова зашептала она.
Из маленькой дачи, нанимаемой баронессой и ее семейством, слышались тихие замирающие аккорды.
Это молодой барон Вальтер играл на рояле в тихий вечерний час.
Нежные, задумчивые звуки вылетали из открытых окон и неслись в объятия вечера, растворяясь и тая в его мечтательной, заколдованной тишине.
Где-то недалеко чуть слышно рыдало своим отливом море, и синее ясное и высокое небо, тоже околдованное в своем вечном бесстрастии, казалось, слушало роскошную песнь.
В плющевой беседке было сумрачно и прохладно.
Обхватив руками шею подруги, Нан приблизила Дунину голову к своей и зашептала с не свойственным ей оживлением и жаром: