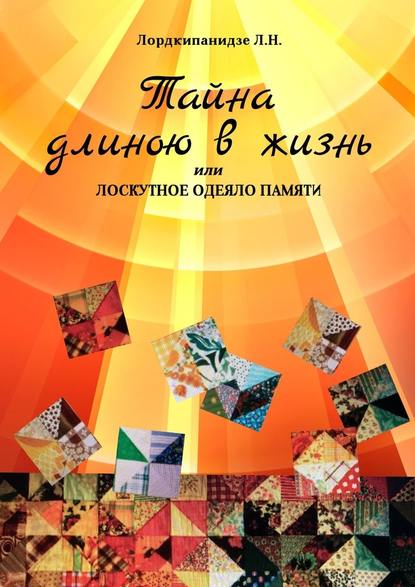По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайна длиною в жизнь, или Лоскутное одеяло памяти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Серёжка, безуспешно пытаясь привлечь внимание матери, рассердился и закричал: «Сколько можно! Я устал тебя звать! И не надо говорить по-украински, я ничего не понимаю!»
Малыш в тот вечер насмешил нас не только этим. Накрывали стол к ужину. Открыли бутылки с лимонадом (тогда они были стеклянные пол-литровые). Серёжа подставлял к носу горлышко открытой бутылки и наслаждался щекочущими пузырьками газа. Соня увидела, всплеснула руками: «Что ты делаешь, зачем суёшь нос в бутылки? Тем более, у тебя насморк!». Серёжка невозмутимо парировал: «Ну и что ж, что насморк? Лимонад же не заболеет!».
О, пока не забыла. По поводу «болезни» в нашей семье есть ещё один детский анекдот. Его рассказал по телефону мой двоюродный брат Лёня – сын тёти Фани, который уехал с семьёй в США после Чернобыля. Так вот, зять Лёнчика – страстный болельщик, ежевечерне «болел» у телевизора. А его трёхлетний сын тоже часто болел – кашлял. Как-то вечером, войдя в гостиную и застав отца, громогласно «болеющего» перед экраном, пацан, «перепутав болезни», тоном умудрённого спортивного фаната спросил: «За кого сегодня кашляем?»…
Но вернёмся в Бердичев. Соня с тётей были заняты последними приготовлениями к ужину, мужчины, как всегда, обсуждали мировые проблемы, а я развлекала Серёжку. Мы с ним так подружились, что, сидя у меня на коленях, он стал обнимать, целовать меня, приговаривая с Сониными интонациями: «Ты моя любименькая, моя хорошенькая, моя красивенькая, лопоухенькая моя сестричка!».
Малыш не понял, почему все покатились со смеху. Дело в том, что его мама произносила «лопоухенький мой» так нежно, что он никак не связывал этот комплимент со своими оттопыренными ушами…
***
Мы в те дни много смеялись, все были рады встрече, у всех было замечательное настроение. Петя, большой мастер, развлекал нас анекдотами. А тётя Фаня сама стала поводом для анекдота. В те годы только-только входило в обиход словечко «снимать» как синоним более раннего жаргонного «клеить».
Соня стала рассказывать о пышной свадьбе одной из своих подружек. Очень хорошенькая блондинка со слегка вздёрнутым, совсем не еврейским аккуратным носиком, с огромными голубыми глазами, Петина жена любила лишний раз напомнить золовкам, какое счастье выпало на долю их непутёвого братца. Так вот, рассказывая о свадьбе, Соня кокетливо заметила: «Ой, там были такие интересные парни-одесситы, они нас с Майкой всё время снимали».
Моя милая тётя Фанечка, которая, казалось, не слушала хвастливую невестку, вдруг встрепенулась и искренне поинтересовалась: «А фотографии ты привезла?».
Вспомнила ещё одну забавную реакцию моей любимой тёти. В гостях у тёти Фани, ещё через несколько лет, рассматриваем с мужем фотоальбом с фотографиями членов маминой семьи, которых в нашем доме не было. Одна из них сделана в 1944 году, в год моего рождения, в Катта-Кургане. На фото моя бабушка Дина, молодожёны – девятнадцатилетняя тётя Фаня с мужем – симпатичным молодым дядей Мишей, и младший в семье – десятилетний Петька.
Рассматриваю фотографию и с восторгом замечаю: «Тётя Фанечка, какая ты здесь красивая! И шея какая высокая, и ноги какие стройные!». Моя любимая тётя, заметно располневшая за прошедшие тридцать с лишним лет, среагировала мгновенно: «Ах, когда это было?! А теперь ноги в ж. пу ушли, а шея в задницу!»…
***
Бердичев, если вдруг кто-то не знает, славен не только древним собором, в котором венчался Бальзак и снимался популярный в своё время фильм «Старая крепость». Бердичев в те годы был одной из неофициальных «еврейских столиц» на Украине; там даже украинцы говорили с еврейским акцентом. Так вот, именно там, в Бердичеве, я впервые услышала: «Дывы, яка гарна ця малэнька жидовочка!».
Так говорили соседки – гойки, как тётя их называла. Не задавая вопросов, я решила, что «гойки» – это плохо воспитанные, неопрятно одетые женщины, которые не пользуются носовым платком, бесконечно «лузгают» семечки, выкладывая шелуху на нижнюю губу так, что она склеивается и повисает слюнявой серой бородой. Ещё гойки очень громко разговаривают, ругаются плохими словами, ссорятся, обзываются и дерутся (периодически у кого-нибудь из них красовался синяк под глазом). Но страшнее всего было то, что они бьют своих детей, я так и не смогла понять, за что… Они били их ремнём, руками, кулаками, по попе, по голове, по спине, дома, во дворе; дети орали благим матом, но никто их не жалел, не успокаивал…
Были ещё какие-то совсем уж плохие женщины, которых я не знала, но была уверена в их никчёмности, потому что, упоминая о них, тётя Фаня щурилась, и с презрительной миной сквозь стиснутые зубы выплёвывала, как что-то гадкое: «шикса».
А мы – жидовочки, мы не едим грязными руками на улице, мы не говорим плохих слов, нас не бьют…
Всё было логично и понятно, потому у меня не возникало необходимости задавать вопросы по этому поводу.
Несмотря на то, что гойки мне совсем не нравились, я была вынуждена считаться с тем, что они – взрослые, и подчиняться; да и, честно говоря, я их немного побаивалась. Особенно неприятно было, даже стыдно, когда они, подозвав меня к своей лавочке, бесцеремонно задирали моё платье, чтобы разглядеть, какие на мне трусики (папа несколько раз присылал нам платья, обувь, шёлковое бельё, какого тогда в нашей стране и у взрослых женщин не было).
Кстати, как-то пришла посылка с десятком пар обуви для меня, все одного размера. Мама с тётей, поохав и поахав по поводу папиной непрактичности, поступили более практично: я раздарила кожаную английскую обувь своим одноклассницам, которые приглашали меня на день рождения.
***
Только став старше, я поняла, как трудно было маме и тёте.
Их мама, моя бабушка, к тому времени умерла (это случилось 2 марта 1949 года, перед нашим отъездом с Сахалина, бабушке было всего 46 лет). Дедушка не мог прийти в себя после скоропостижной смерти жены и сам нуждался в поддержке. Моя 26-летняя мама и её 25-летняя сестра, каждая с двумя детьми, и их 16-летний брат – мы все вместе жили на папину зарплату.
Дело в том, что когда мы приехали в Бердичев, без папы остались не только мы с Дианой, но и тёти Фанины дети – Полина и Лёнчик. Муж тёти Фани, дядя Миша Айзенберг, незадолго до нашего приезда был непонятно за что арестован, и, как тогда было принято, без суда и следствия сослан незнамо куда. Тётя Фаня потратила кучу денег, продав всё, что имело хоть какую-то цену, лишь для того, чтобы узнать, где он.
Дядя Миша первые три года войны был на передовой, служил в танковых войсках. После тяжёлого ранения и лечения в Ташкентском госпитале был демобилизован и направлен в Катта-Курган на «административно-партийную работу». В Катта-Кургане, куда было эвакуировано семейство Кучуков, и где я родилась, дядя Миша с тётей Фаней познакомились, поженились, и в июне 1945 года у них родилась Полина – моя двоюродная сестра.
В Бердичев увеличившаяся за годы войны семья приехала после войны. Мечтали, конечно же, вернуться домой, в Песчанку, но их дом был занят представителями «титульной» на Украине нации. Новые жильцы недвусмысленно дали понять, что дом больше не принадлежит бывшим владельцам, и что те «должны радоваться, что успели убежать и остались живы»…
Дядя Миша, попавший в партобойму, получил и в Бердичеве должность в райкоме партии. Помню, как смешно дядя Миша копировал узбеков, плохо говоривших по-русски: «Айзенберг-ака, какым дело будет, скандальный справка потерялым будет»… правда, это я услышала позднее, когда в 1952 году папа, вернувшись из Китая, сумел добиться освобождения и реабилитации дяди Миши.
Вопрос «какым дело будет?» используется и по сей день в нашем семействе («какым» нужно произносить с ударением на первом слоге).
***
Мы, дети, мало что понимали. Наши мамы, молодые, закалённые вековыми страданиями своего народа, недавно пережитой войной и ранней смертью своей матери, умудрялись вести хозяйство так, что ощущения нужды у меня не осталось. Тем более, и мама, и тётя очень вкусно готовили.
Опекал наше семейство военный врач Иван Алексеевич, он работал в госпитале. Иван Алексеевич часто бывал у нас и один, и со своей женой Надеждой. Всегда приносил нам сласти. Особенно я любила (кроме шоколада, конечно,) подсолнечную халву. Он приносил её в фабричной упаковке – в картонной коробке, выстланной пергаментной бумагой. В жаркие дни халва подтаивала, прилипала к бумаге, и мне особенно нравились аккуратно срезаемые с бумаги «корочки».
Раз в месяц, после получения зарплаты, Иван Алексеевич водил нас четверых в гастроном, и каждый мог выбрать себе то, что хотел. Мы с Дианой предпочитали шоколад; Полина, к моему удивлению, выбирала фруктовые разноцветные помадки без обёрток, а Лёнчик любил ириски – довольно большие пластины, которые легко делились на плоские квадратики с ребристой поверхностью, похожие на гематоген.
***
Неподалёку от тёти Фани жил родственник дяди Миши – Нахман. Не только его имя, но и его профессию я услышала впервые. Нахман был бондарем, и сам был похож на большую бочку – высокий, широкоплечий, с большой круглой седой головой, стриженной «под ёжик», с молочно-розовыми щеками, демонстрирующими крепкое здоровье; несмотря на возраст (ему было под шестьдесят), он никогда не болел. Думаю, кроме генетики свою роль сыграло кошерное питание, свежее молоко (они с женой Хоной держали корову) и физическая работа.
Хона, его жена, являла полную противоположность своего мужа-здоровяка: маленькая, худенькая, сгорбленная, она старалась как можно реже попадаться мужу на глаза. Говорила тихим голосом, ходила вдоль стенки…
Хона и Нахман, прожившие вместе долгую жизнь, не смотрелись парой не только из-за разительных различий внешности; у Хоны была роль не жены, а послушной болезненной безответной прислуги при недобром барине.
***
Нахман был набожный, но поняла я это гораздо позже, когда смогла понять то, что однажды случайно увидела. В очередной раз я пришла к соседям-родственникам за молоком. Постучав в приоткрытую дверь, переступила порог, не дождавшись ответа, и застыла, увидев удивительную картину: Нахман, сидя за столом, раскачивался над старой потрёпанной книгой, нараспев бормоча что-то непонятное; на нём было какое-то полосатое покрывало, а ко лбу была привязана чёрная коробочка, похожая на чернильницу…
Перепуганная побледневшая Хона, не укараулившая дверь, «вытащила» меня и отчаянным шёпотом просила никому из чужих не рассказывать о том, что я видела.
Ко многим тайнам прибавилась ещё одна…
***
Тётя Фаня Нахмана не любила, осуждала за отношение к Хоне, за скупость. Вспоминая её разговоры с мамой, которые часто велись в уверенности, что мы, дети, их не слушаем, а если слышим, то ничего не понимаем, я пришла к выводу, что Нахман из жадности не хотел ничем помочь попавшему в беду дяде Мише – своему единственному живому родственнику; а на Хону, вероятно, злился за то, что она не смогла родить детей.
Из всей нашей многочисленной семьи Нахман хорошо относился только к Лёнчику, остальных, мягко говоря, игнорировал, а Диану и вовсе не любил за то, что она обижала Лёню.
Лёнчик всего на пять месяцев младше Дианы. И хотя Дианка была малюсенькая, хрупкая, а Лёнчик – крупный толстый и важный, его все называли не иначе как «директор смешторга», он боялся Диану, как огня. Моя сестричка была очень подвижная, капризная и агрессивная. Играть вдвоём им не удавалось – Диана все игрушки забирала себе и не позволяла Лёне до них дотрагиваться. Поэтому Лёнчик, бедный, старался успеть поиграть собственными игрушками, пока мама выходила с Дианой гулять. Но Лёня и тогда был настороже: стоило кому-то сказать: «Диана идёт!», он, бедняга, всё бросал и улепётывал от греха подальше.
Как-то Нахман сделал очень красивый маленький стульчик из берёзовых дощечек, совсем как настоящий, со спинкой, и в то же время – сказочный, как на иллюстрации к сказке о Маше и трёх медведях. Принёс стульчик Лёнчику, строго приказав никому его не давать, имея в виду, естественно, Диану. Нахман был очень недоволен тем, что Лёня не умеет за себя постоять.
Вскоре из-за этого сказочно красивого стульчика произошла пренеприятнейшая история. Сидят малыши на горшках. Лёня обеими руками держит перед собой свой стульчик. Диана требует, чтобы он отдал его ей, привычно ожидая повиновения. Но Лёня решил не уступать. Тогда моя сестричка «подъехала» на горшке поближе к брату и ухватилась за стульчик, пытаясь силой отобрать его. Силы были не равные. Лёнчик, гораздо более тяжёлый и сильный, выполняя наказ Нахмана, вцепился в стульчик ещё крепче. Дианка, используя прочно стоящий стульчик, подъехала ещё ближе, и, не успел Лёнчик охнуть, укусила уверенного в победе мальчишку за ухо, да так, что пролилось довольно много крови…
***
Чтобы закончить рассказ о Нахмане, расскажу о том, что мне, опять же случайно, удалось увидеть лет через десять. Я перешла в 10 класс и приехала во время летних каникул погостить в Бердичев. Утром тётя послала меня к Нахману за молоком. Хона к этому времени уже несколько лет покоилась на старом еврейском кладбище. Нахман же, казалось, не изменился – такой же мощный и розовый.
Постучав, я открыла дверь в квартиру Нахмана, не дожидаясь приглашения войти. И хотя взгляд длился мгновение, потому что увиденное заставило меня тут же ретироваться, представшая передо мной картина отпечаталась в моей памяти в самых мелких деталях.
На раскрытой постели, опираясь на высокие подушки, возлежала пышнотелая молодая женщина в красивой кружевной комбинации – так называли в те годы женские нижние шёлковые сорочки, непременно надевавшиеся под платье. Подтверждением может служить анекдот, в котором слово «комбинация» является ответом на вопрос из серии «армянское радио спрашивают»: «Что у еврея на уме, а у женщины под юбкой?».
Юбки, однако, на даме не было, но зато на её плечах серебрилась черно-бурая лиса, свесив справа на соблазнительно-упругую грудь прелестницы узколобую голову с блестящими глазами, а слева – пышный хвост. Перед кроватью, вполоборота к двери, стоял на коленях почти одетый Нахман и надевал своими огромными лапищами тонкий капроновый чулок на сдобную женскую ногу. Бондарь был так увлечён, что не отреагировал на открывшуюся дверь, а его подружка успела игриво мне подмигнуть.