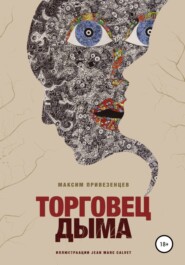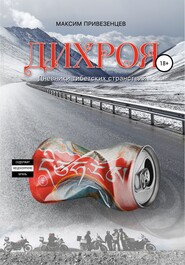По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шотландский ветер Лермонтова
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Удивительно верные выводы, Петр, учитывая, что письмо ты не читал. Там буквально каждая строка сквозит раздражением, связанным с праздной жизнью общества.
– А ты сам-то что думаешь об этом письме? – спросил Долгоруков.
Уже не впервой Уварову показалось, что он говорит с некой издевкой, будто все происходящее кажется ему не серьезным и важным, а смешным.
– Я думаю, что метать бисер перед свиньями без толку, – холодно произнес Лермонтов, пронзая Долгорукова взглядом. – Но полагаю, Чаадаеву настолько надоело общество, которое ведет себя, как стадо, поэтому он и выплеснул всего себя в письме.
– В который раз удивляюсь тебе, Мишель, – покачал головой Долгоруков. – Общество, которое терпеливо выносит тебя и даже тобой восхищается, ты беззастенчиво именуешь «свиньями» и «стадом».
– О, а вот и моя совесть подоспела! – прищурившись, воскликнул Лермонтов. – С чего ты взял, Петр, что должен из чувства благодарности умалчивать правду? Если ты живешь по подобным принципам, то мне тебя жаль.
Долгоруков скривился и, одарив Лермонтова неприязненным взором, произнес:
– Ты что же, называешь меня лицемером, корнет?
– Ну, по-твоему, получается, что лицемер – это я.
– Да будет вам, – вклинился в разговор Гагарин. – Что вы так сцепились?
– Потому что Михаил Юрьевич отчего-то считает себя великим обличителем пороков общества, – процедил Долгоруков, – но при этом отчего-то продолжает в этом обществе находиться.
– Как же ты однобоко судишь обо всем, Петр, поражаюсь тебе! – воскликнул Лермонтов. – Да разве можно делать выводы об обществе, существуя вне его? Только лишь проводя время с этими людьми, в высшем свете, ты понимаешь, сколь велико их стадное стремление во всем потакать пастуху в короне!
– И царь у тебя уже – пастух? – прошипел Долгоруков. – И это говорит наследник Столыпиных!
– Вот в том между нами и разница, – заявил Мишель холодно. – Тебе и другим, тебе подобным, все равно, совершил ли Николай что-то мудрое или откровенную глупость – вы поддержите его, как верное стадо, а он и рад слушать ваш стройный хор подпевал…
Долгоруков резко вскочил с места, и Гагарин воскликнул:
– Довольно!
Монго сделал шаг вперед, практически загородив собой Лермонтова.
– А известно ли тебе, корнет, что твой обожаемый Александр Сергеевич, твой кумир, тоже является частью царской свиты? Более того, многие в городе поговаривают, что он состоит в Третьем отделении…
– Довольно лжи!
– А может, просто правда глаза колет? Но ничего, поманит царь Наталью, и вот тогда увидишь, как изменится тон твоего Пушкина – заголосит громче вас с Чаадаевым вместе взятых…
Петр Алексеевич увидел, как Лермонтов побагровел лицом, а Жерве с Монго, напротив, побледнели.
– Проваливайте отсюда, иначе я за себя не ручаюсь! – воскликнул Мишель в сердцах.
– Тебе действительно лучше уйти, Петр, – строго произнес Долгорукову Гагарин. – Я изначально вас с Жерве просил не разглагольствовать об Александре Сергеевиче, а ты не просто пренебрег этой просьбой, но еще и зачем-то упомянул честь его супруги… Не красит тебя это совершенно.
Выслушав это, Долгоруков процедил:
– За мной вы видите, что должно, а за ним, стало быть, замечать не желаете? Ну что же, пусть будет так. Только помните: с такими проводниками, как Чаадаев и Лермонтов, вы далеко не уйдете, а царь не из тех, кто прощает измену. И не говорите потом, что я вас не предупреждал. До встречи.
С этими словами он вышел из кабинета и устремился по лестнице вниз. Гагарин проследовал за разъяренным гостем, чтобы проводить его до дверей.
– Тем чище станет воздух, – сказал Лермонтов в ответ на вопросительный взгляд Монго. – Я многое могу стерпеть в свой адрес, но оскорблений в адрес Александра Сергеевича не потерплю.
– Я знаю, – мягко сказал Столыпин.
Тот вечер Петр Алексеевич запомнил надолго: впервые вечер, проведенный в чужом доме, породил в нем столь много разных чувств и мыслей. Спор Лермонтова с Долгоруковым вышел горячим, и, что больше всего поразило Уварова, поэт совершенно не стеснялся прямо говорить о пороках царя и его окружения. Стоило же противнику корнета покинуть дом Гагарина, и Лермонтов превратился в остроумного балагура. О недавней склоке он более не вспоминал, и только Монго, когда они с Уваровым ехали от князя домой, со вздохом сказал:
– Ах, Мишель… Любая шпилька в адрес Пушкина действует на него, словно красный платок матадора на разъяренного быка. Долгоруков это прекрасно знал и нарочно ударил по больному месту. Впрочем, сам-то он Пушкина не жалует уже давно – то ли от зависти, то ли по каким-то иным, неизвестным мне причинам…
– Отчего же, так уважая Пушкина, Мишель никогда не просил, чтобы Гагарин познакомил Александра Сергеевича с его творчеством? – озадаченно пробормотал Уваров.
– Говорит, что не считает свои стихи достойными его внимания, – скривив губы, ответил Монго. – Проще говоря, скромничает…
Удивление Петра Алексеевича, видимо, не укрылось от Столыпина, поскольку тот добавил:
– Понимаю, кажется, что он не из застенчивых, и спор с Долгоруковым тому яркое подтверждение, но на самом деле в вопросах творчества Мишель именно такой. Да и потом, ему не чужды такт и гордость: навязываться, пускай и через князя, ему претит.
«Как все-таки причудливо, как странно сочетаются в Лермонтове два этих начала, – подумал Уваров. – Вспыльчивый острослов и повеса в компании друзей – и подлинная скромность во плоти, когда дело доходит до стихов…»
Вечер, проведенный в кружке Лермонтова, оставил после себя весьма противоречивые впечатления. С одной стороны, его пугала откровенность, с которой говорили участники собрания. С другой, вопросы, обсуждаемые этими, без сомнения, достойнейшими людьми, весьма волновали Петра Алексеевича, ведь его затворничество было связано как раз с неприятием лицемерия, царившего в высшем свете Петербурга.
– Теперь ты один из нас, – многозначительно сказал Лермонтов, пожимая руку Уварова перед отъездом.
И, судя по одобрительным улыбкам на лицах Гагарина и остальных, кружок действительно принял его в свои ряды.
* * *
2018
– Как, говоришь, это место называется? – спросил Чиж.
– Эйлдонские холмы, – ответил я. – Очень важное место Томаса-Рифмача – пожалуй, самого известного шотландского предка Лермонтова. Согласно легенде, здесь, под сенью раскидистого векового дуба, он встретил королеву волшебной страны фей и от нее получил свой дар стихотворства.
Был полдень. Мы шагали по сочной зеленой траве, глядя на холмы, которые напоминали изумрудные волны, вздыбившиеся да так и замершие навсегда – возможно, тоже не без участия фей.
– После они отправились в Волшебную страну на зачарованных конях, – продолжил я. – Томас пробыл там несколько лет, потом собрался назад, и королева фей на прощанье дала ему яблоко, съев которое, Томас обрел дар провидца и, одновременно, стал неспособен врать. Ну то есть его, если спрашивали о чем-то, он мог ответить только правду.
– Подарок так себе, – хмыкнул Вадим. – Его потом не били?
– Кто знает…
Мы поднялись на холм. Здесь бесчинствовал шотландский ветер; он трепал Чижу волосы и шелестел нашими куртками.
– Сэр Вальтер Скотт любил здесь бывать, – сказал я. – Иногда он приезжал сюда вместе с Тернером, известным художником. Вообще, тема Томаса-Рифмача так популярна как раз из-за Скотта – все благодаря его балладе «Томас Стихотворец» и роману-пророчеству «Томас из Эрсильдуна» в «Песнях шотландского пограничья». На русский ее, правда, перевели только в 1993-м, уже после распада СССР, так что, получается, Лермонтов читал сэра Вальтера на языке оригинала, то есть на английском…
Немного замерзнув, я пошел с холма вниз, к камню Эйлдонских холмов – серой гранитной плите высотой по пояс, со скошенными углами, которая торчала из земли.
– Это что, могила Томаса? – спросил Чиж.
– А ты сам-то что думаешь об этом письме? – спросил Долгоруков.
Уже не впервой Уварову показалось, что он говорит с некой издевкой, будто все происходящее кажется ему не серьезным и важным, а смешным.
– Я думаю, что метать бисер перед свиньями без толку, – холодно произнес Лермонтов, пронзая Долгорукова взглядом. – Но полагаю, Чаадаеву настолько надоело общество, которое ведет себя, как стадо, поэтому он и выплеснул всего себя в письме.
– В который раз удивляюсь тебе, Мишель, – покачал головой Долгоруков. – Общество, которое терпеливо выносит тебя и даже тобой восхищается, ты беззастенчиво именуешь «свиньями» и «стадом».
– О, а вот и моя совесть подоспела! – прищурившись, воскликнул Лермонтов. – С чего ты взял, Петр, что должен из чувства благодарности умалчивать правду? Если ты живешь по подобным принципам, то мне тебя жаль.
Долгоруков скривился и, одарив Лермонтова неприязненным взором, произнес:
– Ты что же, называешь меня лицемером, корнет?
– Ну, по-твоему, получается, что лицемер – это я.
– Да будет вам, – вклинился в разговор Гагарин. – Что вы так сцепились?
– Потому что Михаил Юрьевич отчего-то считает себя великим обличителем пороков общества, – процедил Долгоруков, – но при этом отчего-то продолжает в этом обществе находиться.
– Как же ты однобоко судишь обо всем, Петр, поражаюсь тебе! – воскликнул Лермонтов. – Да разве можно делать выводы об обществе, существуя вне его? Только лишь проводя время с этими людьми, в высшем свете, ты понимаешь, сколь велико их стадное стремление во всем потакать пастуху в короне!
– И царь у тебя уже – пастух? – прошипел Долгоруков. – И это говорит наследник Столыпиных!
– Вот в том между нами и разница, – заявил Мишель холодно. – Тебе и другим, тебе подобным, все равно, совершил ли Николай что-то мудрое или откровенную глупость – вы поддержите его, как верное стадо, а он и рад слушать ваш стройный хор подпевал…
Долгоруков резко вскочил с места, и Гагарин воскликнул:
– Довольно!
Монго сделал шаг вперед, практически загородив собой Лермонтова.
– А известно ли тебе, корнет, что твой обожаемый Александр Сергеевич, твой кумир, тоже является частью царской свиты? Более того, многие в городе поговаривают, что он состоит в Третьем отделении…
– Довольно лжи!
– А может, просто правда глаза колет? Но ничего, поманит царь Наталью, и вот тогда увидишь, как изменится тон твоего Пушкина – заголосит громче вас с Чаадаевым вместе взятых…
Петр Алексеевич увидел, как Лермонтов побагровел лицом, а Жерве с Монго, напротив, побледнели.
– Проваливайте отсюда, иначе я за себя не ручаюсь! – воскликнул Мишель в сердцах.
– Тебе действительно лучше уйти, Петр, – строго произнес Долгорукову Гагарин. – Я изначально вас с Жерве просил не разглагольствовать об Александре Сергеевиче, а ты не просто пренебрег этой просьбой, но еще и зачем-то упомянул честь его супруги… Не красит тебя это совершенно.
Выслушав это, Долгоруков процедил:
– За мной вы видите, что должно, а за ним, стало быть, замечать не желаете? Ну что же, пусть будет так. Только помните: с такими проводниками, как Чаадаев и Лермонтов, вы далеко не уйдете, а царь не из тех, кто прощает измену. И не говорите потом, что я вас не предупреждал. До встречи.
С этими словами он вышел из кабинета и устремился по лестнице вниз. Гагарин проследовал за разъяренным гостем, чтобы проводить его до дверей.
– Тем чище станет воздух, – сказал Лермонтов в ответ на вопросительный взгляд Монго. – Я многое могу стерпеть в свой адрес, но оскорблений в адрес Александра Сергеевича не потерплю.
– Я знаю, – мягко сказал Столыпин.
Тот вечер Петр Алексеевич запомнил надолго: впервые вечер, проведенный в чужом доме, породил в нем столь много разных чувств и мыслей. Спор Лермонтова с Долгоруковым вышел горячим, и, что больше всего поразило Уварова, поэт совершенно не стеснялся прямо говорить о пороках царя и его окружения. Стоило же противнику корнета покинуть дом Гагарина, и Лермонтов превратился в остроумного балагура. О недавней склоке он более не вспоминал, и только Монго, когда они с Уваровым ехали от князя домой, со вздохом сказал:
– Ах, Мишель… Любая шпилька в адрес Пушкина действует на него, словно красный платок матадора на разъяренного быка. Долгоруков это прекрасно знал и нарочно ударил по больному месту. Впрочем, сам-то он Пушкина не жалует уже давно – то ли от зависти, то ли по каким-то иным, неизвестным мне причинам…
– Отчего же, так уважая Пушкина, Мишель никогда не просил, чтобы Гагарин познакомил Александра Сергеевича с его творчеством? – озадаченно пробормотал Уваров.
– Говорит, что не считает свои стихи достойными его внимания, – скривив губы, ответил Монго. – Проще говоря, скромничает…
Удивление Петра Алексеевича, видимо, не укрылось от Столыпина, поскольку тот добавил:
– Понимаю, кажется, что он не из застенчивых, и спор с Долгоруковым тому яркое подтверждение, но на самом деле в вопросах творчества Мишель именно такой. Да и потом, ему не чужды такт и гордость: навязываться, пускай и через князя, ему претит.
«Как все-таки причудливо, как странно сочетаются в Лермонтове два этих начала, – подумал Уваров. – Вспыльчивый острослов и повеса в компании друзей – и подлинная скромность во плоти, когда дело доходит до стихов…»
Вечер, проведенный в кружке Лермонтова, оставил после себя весьма противоречивые впечатления. С одной стороны, его пугала откровенность, с которой говорили участники собрания. С другой, вопросы, обсуждаемые этими, без сомнения, достойнейшими людьми, весьма волновали Петра Алексеевича, ведь его затворничество было связано как раз с неприятием лицемерия, царившего в высшем свете Петербурга.
– Теперь ты один из нас, – многозначительно сказал Лермонтов, пожимая руку Уварова перед отъездом.
И, судя по одобрительным улыбкам на лицах Гагарина и остальных, кружок действительно принял его в свои ряды.
* * *
2018
– Как, говоришь, это место называется? – спросил Чиж.
– Эйлдонские холмы, – ответил я. – Очень важное место Томаса-Рифмача – пожалуй, самого известного шотландского предка Лермонтова. Согласно легенде, здесь, под сенью раскидистого векового дуба, он встретил королеву волшебной страны фей и от нее получил свой дар стихотворства.
Был полдень. Мы шагали по сочной зеленой траве, глядя на холмы, которые напоминали изумрудные волны, вздыбившиеся да так и замершие навсегда – возможно, тоже не без участия фей.
– После они отправились в Волшебную страну на зачарованных конях, – продолжил я. – Томас пробыл там несколько лет, потом собрался назад, и королева фей на прощанье дала ему яблоко, съев которое, Томас обрел дар провидца и, одновременно, стал неспособен врать. Ну то есть его, если спрашивали о чем-то, он мог ответить только правду.
– Подарок так себе, – хмыкнул Вадим. – Его потом не били?
– Кто знает…
Мы поднялись на холм. Здесь бесчинствовал шотландский ветер; он трепал Чижу волосы и шелестел нашими куртками.
– Сэр Вальтер Скотт любил здесь бывать, – сказал я. – Иногда он приезжал сюда вместе с Тернером, известным художником. Вообще, тема Томаса-Рифмача так популярна как раз из-за Скотта – все благодаря его балладе «Томас Стихотворец» и роману-пророчеству «Томас из Эрсильдуна» в «Песнях шотландского пограничья». На русский ее, правда, перевели только в 1993-м, уже после распада СССР, так что, получается, Лермонтов читал сэра Вальтера на языке оригинала, то есть на английском…
Немного замерзнув, я пошел с холма вниз, к камню Эйлдонских холмов – серой гранитной плите высотой по пояс, со скошенными углами, которая торчала из земли.
– Это что, могила Томаса? – спросил Чиж.