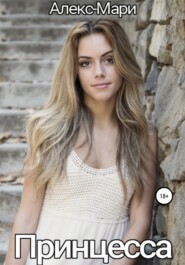По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Каприс для Кати
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, не умрем.
– И нас фашисты не убьют?
– Нет, не убьют.
– И не взорвут?
– Нет.
– И не застрелят?
– Нет!
– А мама умерла…
– Маруся! – Шура первая потеряла терпение, – мама умерла не от немцев!
– А от кого?
– Так! – Катя решительно прервала этот разговор, – хватит про немцев! Смотри! – она достала телефон и сунула его Марусе, – это игра такая. Гляди, надо нажимать шарики, и они будут лопаться.
Маруся восторженно тыкала пальцем в гаджет, а Катя подумала, что дети в любом времени одинаковые.
– А я знаю его, – тихо произнесла Шура, указывая на Толю, который отрешенно сидел неподалеку – он на площади играл, еще до войны. У него рубашка белая была и бабочка.
– Толя, – Миша вдруг открыл глаза, – ты можешь что-нибудь сыграть?
Толя молча встал, открыл футляр и вынул скрипку. Привычным жестом приложил инструмент к подбородку, прикрыл глаза и приложил смычок к струнам. Из-под смычка полилась мелодия, такая нежная и тихая, но Кате показалось, что она не слышит ничего, кроме этой музыки. Толя играл, а из-под прикрытых его глаз катились слезы.
На улице, действительно, стало тише. Взрывы еще слышались, но вдалеке. Маруся так и уснула, с телефоном в руке. Толя тоже спал, положив щеку на футляр. Шура сняла платок. Под ним оказались чудной красоты косы. Катя тоже сбросила капюшон.
– Ой! – увидев ее, Шура ахнула и приложила ладонь ко рту, – что с тобой?
– А что со мной? – Катя испугалась и начала ощупывать себя, может она ранена?
– Что с твоими волосами? Тебя немцы так?!
Катя пригладила взъерошенную прядь.
– Это мода такая, – буркнула она.
– Мода? – Шура смешливо наморщила лоб, – чтобы, с одной стороны, лысо? У нас в детдоме так мальчишек брили, которые не хотели подстригаться. Сбреют одну сторону, им деваться некуда, идут и вторую добривают.
Катя сначала хотела обидеться, но передумала. Действительно, мода в ее времени была странная и непонятная для многих. Просто люди привыкли к странностям и почти не удивлялись.
– У тебя очень красивые волосы, – сказала она Шуре, и девочка улыбнулась.
– У Маруськи волосы папины, редкие, – проговорила она вдруг, – а у меня мамины. Мама Маруське мазала голову репейным маслом, чтобы волосы росли, а они все равно не росли, – засмеялась девочка.
– А ваши родители где? – спросила Катя, и тут же пожалела о своих словах. Но Шура, помолчав, все же ответила.
– Папа ушел на войну в тридцать девятом. Я помню, как он собирался, курил на кухне, шепотом разговаривал с мамой. Потом папа оделся, поцеловал нас с Марусей, обнял маму и ушел. И больше не приезжал. А мама заболела в тридцать девятом, ее увезли в больницу и… всё.
Девочка помолчала и добавила:
– Но папа жив! Когда солдат умирает, то приносят похоронку, а нам ничего не приносили!
У Кати заныло внутри, ей стало страшно. Она даже представить не могла, как бы жила она, если бы вдруг ее родителей не стало.
– Потом к нам пришли тетеньки, сказали, чтобы мы собирались в детский дом, – продолжила Шура. Голос ее был тих, она не плакала. – Маруся совсем не помнит маму, – грустно добавила она.
Катя обняла Шуру.
– Ты очень смелая, – сказала она, – самая смелая девочка из всех, кого я знаю.
Шура улыбнулась и прикрыла глаза. Наверно, ей хотелось побыть наедине со своими мыслями.
– Тебе бы тоже пошли длинные волосы, – шепотом сказал Миша.
– Да? – Катя зарделась, радуясь, что в темноте не видно ее глупого румянца.
– Ага. И платье. Голубое. С туфельками. В ваше время девочки носят платья?
– Носят.
– Это хорошо…
Они лежали рядом, и сквозь шум снаружи она слышала, как ровно и чисто стучит его сердце. Этот стук убаюкивал, успокаивал, и Катя прикрыла глаза. Засыпая, она почувствовала, или, быть может, ей показалось, теплое дыхание на щеке. Наверное, показалось…
Катя открыла глаза. Было тихо. Она осмотрелась – под ней был старый диван с отломанным подлокотником. И вообще, сарай был завален сломанной мебелью. Никакого сена не было и в помине. Она соскочила с дивана, натянула капюшон и вышла. Солнце ярко отражалось от снега и глаза невыносимо слепило. Девочка осмотрелась – голубого дома не было. На его месте строилось что-то, лежали три ряда кирпичей, стояла бетономешалка. Она бросилась к воротам и столкнулась с мужчиной. Мужчина был азиатской внешности и разговаривал с акцентом.
– Тебе чего, девочка? Уходи, сюда нельзя!
Катя бросилась из ворот, пробежав некоторое время, потом остановилась и осмотрелась. Она вернулась. Казалось бы, она должна радоваться, но на душе была печаль. Из-за угла выехала машина с номером на крыше, она махнула рукой и такси остановилось. Объяснив, куда ей надо, Катя отвалилась на подголовник и прикрыла глаза.
Таксист привез быстро, взял оплату и укатил. Найти мемориал было несложно – оттуда играли песни военных лет. Катя почти сразу увидела и одноклассников, и учительницу. Аннапална тоже увидела ее и через толпу начала пробираться в Катину сторону.
– Котова, ты что, решила сегодня поставить рекорд по сведению меня с ума? Где ты была?! Ты пропустила всю реконструкцию! Иди быстро в первый ряд, и чтобы больше никаких выходок! Я за тобой слежу!
Историчка сверкнула глазами и умчалась.
Перед мемориалом выступали какие-то общественные деятели, пели люди в народных костюмах. А она стояла и смотрела, думая о своем. На сцену вышел пузатый мужик в костюме, что-то долго говорил.
– … а сегодня, в этот торжественный день, нас посетила Мария Николаевна Эркерт, в девичестве Емельянова. Мария Николаевна была совсем маленькой, когда немецкие оккупанты, покидая город, разрушили Истру до основания, но ей удалось спастись. И о своем чудесном спасении она сейчас нам расскажет.
Послышались жиденькие аплодисменты, и на сцену вышла пожилая женщина. Она была аккуратно одета, красиво подкрашена и улыбалась. Катя замерла, глядя на нее. Маруся… Это была Маруся. Вчерашняя маленькая Маруся с измазанными шоколадом губами.
Старушка обвела взглядом школьников и увидела Катю. Она побледнела и на минуту перестала улыбаться, но потом взяла себя в руки и заговорила. После выступления, получив пару дежурных букетов, пожилая женщина спустилась со сцены и, будто стесняясь, подошла к Кате.