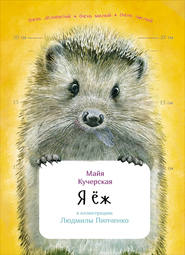По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лесков: Прозёванный гений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Российская пресса давно не переживала ничего подобного. В 1850 году, например, появилось всего одно новое периодическое издание – официальная газета «Ставропольские губернские ведомости», в 1852-м – четыре: три научных журнала и «Саратовские губернские ведомости». И так все семь мрачных лет, пока действовал Бутурлинский комитет – секретный орган, созданный Николаем I для надзора «за духом и направлением» российской печати. Весной 1855 года комитет был закрыт, и, хотя официальные цензурные правила смягчили спустя еще несколько лет, начали выходить десятки новых периодических изданий разной степени глубины – от академических до литературных, от педагогических и детских до развлекательных. Рекордсменом стал 1858 год, когда в России было зарегистрировано 59 новых изданий
. Замечательно, что изрядная их часть – уличные листки, юмористические, шутливые эфемериды: «Бардадым», «Бессонница-шутница», «Весельчак», «Дядя шут гороховый», «Ералаш», «Попугай», «Пустомеля», «Пустозвон», «Шутник», «Фонарь», «Чепуха», «Юморист». Один из таких листков, «Щелчок», сообщал, что его редакция «находится в кармане, карман в сюртуке, сюртук на редакторе, а редактор в Петербурге». Еще задорнее бренчала «Бесструнная балалайка» – «листок забавного смехословия и потешного пустословия», весь написанный раешным стихом.
Глядя на эти названия, физически ощущаешь прибавление весны и веселья в воздухе. Общество наконец задышало, ему дозволено было просто шутить, потешаться, в том числе над собой. Но в списке зарегистрированных в 1858 году изданий немало и серьезных. Почти все они были связаны с экономикой, землевладением, каждое уделяло внимание готовящейся крестьянской реформе: и основательный «Вестник промышленности» Федора Васильевича Чижова (это ему будет адресовано первое сохранившееся письмо Лескова за 1859 год), и идеологически близкая «Указателю экономическому» газета «Промышленный листок», и славянофильский журнал «Сельское благоустройство», и «Журнал землевладельцев», и «Экономист», основанный Иваном Васильевичем Вернадским как приложение к «Указателю экономическому». Параллельно, впрочем, расцвел и «Подснежник» Владимира Николаевича Майкова, родного брата критика Валериана и поэта Аполлона (не в честь ли стихотворения последнего названный?). Это был журнал для детей и юношества, быть может, чрезмерно благопристойный, но со своим лицом и сильным авторским составом. Опусы безвестных сочинителей приятно разбавлялись текстами И. А. Гончарова, Д. В. Григоровича, Марко Вовчка, Чарлза Диккенса и Гарриет Бичер-Стоу.
Но новым газетам и журналам нужны были новые авторы – сотни страниц ежемесячных, ежедневных литературных изданий необходимо было заполнять. «Время нас делало литераторами, а не наши знания и дарования»
, – заметит Лесков несколько лет спустя.
В изящную словесность приходили теперь не из лицеев и университетов, не из родительских библиотек, забитых французскими и английскими романами, которые так уютно читать в беседке наследственного имения, под несущиеся из распахнутых окон звуки рояля (матушка решила помузицировать), не из литературных салонов – теперь авторы срывались «кто с бора, кто с сосенки»
. Перли из семинарий и духовных училищ, из купеческих лавок, с барок и разъезжавших по пеклу и пыли российских дорог таратаек или прямо с трактов, по которым они упрямо шли день за днем, месяц за месяцем, как, например, писатель Александр Иванович Левитов, который дважды приходил в Москву пешком. В российскую изящную словесность притопали плебеи. Литературные аристократы отвернулись и зажали носы.
Почему они вдруг явились – эти нечесаные дети дьячков и священников, эти бурсаки, «моя консистория», как отечески звал их дворянин Некрасов, эти сыновья вчерашних крепостных или в лучшем случае уездных врачей, эти бывшие приказные, учителя народных училищ, не окончившие курс студенты-медики, а если уж дворяне, то «колокольные», как Лесков? Потому что литература нуждалась в них, как в воздухе, пусть воздух этот был пропитан вонью постоялых дворов, мужицкого пота и навоза. Но это было даже хорошо. Язык не поворачивался назвать создаваемую ими новую словесность изящной, они изменили ее облик. Их деды, подобно деду тургеневского Базарова, землю пахали; но и у них самих под ногтями было черно – и это была грязь реальная, которую увидела в своем втором сне Вера Павловна, героиня романа Чернышевского «Что делать?», и убедилась, что в такой грязи ничего дурного нет.
Лесков спрыгнул в столичную журнальную жизнь с замызганного возка Шкотта. Его первые заметки проклюнулись из-под талого снега на обочинах столбовых дорог, выросли из разъездов по российским губерниям не подснежниками – молодыми упрямыми кустами в настырных почках.
Он умел говорить с торговым людом, ямщиком, ремонтером, хозяином постоялого двора. Житейского опыта у него было в избытке, литературного – ноль. По киевскому случаю с корреспоненцией о продаже Евангелия он уже испытал: слово может кое-что изменить. По истории с заметкой о полицейских врачах узнал и о том, что публичное слово в России страшит высокое начальство. Но не испугался. Доктор Вальтер защищал его, немногочисленные единомышленники были рядом, а государство далеко, высоко. Сражаться с ним было даже весело, и он отправился в Петербург – бороться за правду дальше. Он ведь ненавидел всяческую ложь.
Лесков ехал в столицу, чтобы стать профессиональным журналистом. Вряд ли тогда, в январе 1861 года, он думал о писательстве. В такую туманную даль он, скорее всего, не заглядывал. И без того он совершил поступок чрезвычайно дерзкий, поменяв не только место жительства, но и участь, порвав и с чиновничьим, и с коммерческим прошлым, ступив на совершенно новую дорогу.
И впервые оказался один, без родных. В Киеве его поддерживал дядюшка, в селе Райском – тетушка, ангелоподобная Александра Петровна, и ее энергичный супруг. Родственные связи создавали ощущение тыла – не самого надежного и, как выяснилось, не такого уж долговечного. Тем не менее на предыдущих поприщах рядом с ним шагали люди, для которых он был не обязательно любимый, но уж точно свой, по праву крови. В Петербурге всё оказалось иначе.
Давний приятель доктора Вальтера, уроженец Киева Вернадский готов был помочь способному журналисту, но в известных пределах, ограниченных другими делами. К тому же он был скорее ученый, лектор, никак не литератор, от мира искусства человек далекий. Лескова же, похоже, тянуло именно в этот пока неведомый ему мир.
Сразу по приезде он отправился к Тарасу Григорьевичу Шевченко. Об опальном «кобзаре» он впервые узнал еще в Орле от Марковича и затем, наверное, встречал его в Киеве: некоторое время Шевченко жил в доме лесковского тестя. Они виделись год назад в Петербурге, куда Лесков приезжал еще по делам компании Шкотта
. На этот раз они проговорили не так долго, Шевченко подарил ему свой «Букварь южно-руский», который составил для обучения грамоте на малороссийском языке в воскресных школах. Сам этот поступок – приехав в столицу, явиться к не самому близкому знакомому, однако поэту и художнику – выдает желание обрести связи в столичном литературном и артистическом мире. Встреча оказалась последней, через месяц Шевченко умер. Лесков посвятил его памяти теплую и печальную заметку
.
Именно к этому времени относится первый известный нам словесный портрет Лескова, исполненный библиографом и поэтом Петром Васильевичем Быковым:
«Впервые увидел я Лескова в редакции “Политико-экономического указателя”, издававшегося профессором Иваном Васильевичем Вернадским. Николай Семенович был здесь при одном из своих наездов в Петербург из Киева и доставил статейку “Об ищущих коммерческих мест в России”, где он хотел уяснить для читающей массы “разумение жизни”. Я сидел в приемной как раз против двери редакторского кабинета. Из нее вышел среднего роста, плотного сложения, красивый молодой человек, лет около тридцати. Профессор познакомил нас, и Лесков вперил в меня взгляд, слишком внимательный, от которого мне стало как-то не по себе. Но в общем новый мой знакомый производил впечатление обаятельное. Таким предстал предо мною Лесков. Мне было в высшей степени приятно выйти с ним вместе из редакции и вести беседу, в которой сказывалась его необычайная деловитость, серьезность не по возрасту»
.
В достоверности приведенного описания есть серьезные сомнения
. Скорее всего, Быков познакомился с Лесковым значительно позднее и сочинил этот портрет, опираясь на дагеротипы той поры и свои поздние впечатления. К тому же коренаст, статен – да, но красив Лесков всё-таки не был. В любом случае Быков благоразумно размещает эту, возможно, и мифическую встречу рядом с кабинетом профессора Вернадского.
Иван Васильевич Вернадский окончил словесное отделение Киевского университета, но вскоре, будучи отправлен в Европу изучать политэкономию, из словесника сделался экономистом и статистиком. Вернувшись в Россию, он получил звание профессора Киевского, а затем Московского университета. В 1856 году Вернадский переехал в Петербург, поступив на службу в Министерство внутренних дел, не оставив, впрочем, преподавания. Но быть может, самым удачным его предприятием стала женитьба.
Мария Николаевна Вернадская, урожденная Шигаева, одна из первых русских феминисток в самом спокойном смысле этого слова – та, что уловила дыхание весны в общественном воздухе, происходила из хорошей дворянской семьи. Отец ее служил в департаменте государственной экономии Государственного совета, затем был товарищем (заместителем) министра финансов, в молодости переводил Вальтера Скотта и Поля де Кока, так что разговоры и на экономические, и на литературные темы Мария Николаевна слушала с юных лет. Она не сомневалась, что экономические знания способствуют росту благосостояния граждан, и предложила мужу открыть первый в России специализированный политэкономический журнал.
В 1857 году еженедельник «Указатель экономический» начал выходить в свет, в 1861-м изменил название на «Указатель экономический, политический и промышленный». Здесь публиковались статьи о свободной торговле, защите труда, податях, популярных на Западе финансовых идеях, краткие обзоры дискуссий политэкономических обществ в Европе, переводы иностранных статей и рецензии на российские и зарубежные книги по политэкономии. Все эти по преимуществу теоретические знания издатели пытались спроецировать на российскую действительность. Поэтому были здесь и заметки об «участи лошадей и состоянии дорог», и отчеты о ценах на зерно, масло, пушнину, и подробные сводки криминальных новостей в рубрике «Хроника несчастий в России», полные хтонической российской жути.
Хроники рассказывали, как крестьяне избивали, а часто и убивали своих жен, жены не оставались в долгу и травили мужей мышьяком; сообщали о бесчисленных несчастных случаях: кто-то случайно поджег собственную избу; другой опустил двенадцатилетнего сына в колодец для чистки на гнилой веревке, веревка оборвалась, а мальчик погиб; измученные работой молодые крестьянки ночью часто «засыпали» (нечаянно душили) своих младенцев. «Губительно действует беспечность нашего простолюдина; но его ли вина, что он до сих пор остается в совершенном невежестве? Его ли вина, что мрачный быт его до сих пор не озаряется светом образования?» – вопрошал журнал, из номера в номер рассказывая о новых и новых несчастьях с одной лишь целью: напомнить о необходимости просвещения «народной массы, коснеющей в невежестве самом безотрадном».
Журнал с такими повесткой и идеологией остро нуждался в корреспондентах «с мест». Одним из них и стал киевлянин Лесков. Он познакомился с Вернадским, по-видимому, еще осенью 1859 года, когда приезжал в столицу как поверенный компании «Шкотт и Вилькенс». Вероятно, тогда же они договорились о сотрудничестве. Со второй половины 1860 года «Указатель экономический» постоянно публиковал корреспонденции Лескова под заголовком «Вести из Киева», без подписи. Лесков рассказывал читателям основные городские новости: о мощении улиц, об открытии книгопродавцем Барщевским кабинета для чтения, о курсе физиологии, который прочтет для желающих профессор А. П. Вальтер, об открытии в Киеве женских воскресных школ, о благотворительных музыкальных вечерах, об учреждении новых газет, о строительстве общественной бани и новой тюрьмы
. С политэкономией это напрямую связано не было, но давало ценную для журнала панораму российской жизни.
Приехав в Петербург, Марию Николаевну Лесков уже не застал в живых – она скончалась от болезни почек на руках у мужа в Гейдельберге, по пути на курорт Монтрё. Овдовевший Вернадский принимал Лескова спустя всего два месяца, вероятно, радуясь возможности заполнить образовавшуюся пустоту, еще вероятнее – из чувства долга.
Выпуск журнала продолжался. В «Указателе экономическом» появилось еще несколько публикаций Лескова, написанных всё в том же духе протеста против русского мрака: в 1860 году – «Заметка», «Письма к редактору», «Несколько слов о местах распивочной продажи хлебного вина, водок и меда», «Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России»; в 1861-м – «Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе», «Торговая кабала».
Самое начало 1860-х стало еще и эпохой комитетов, которые должны были способствовать реформам. Вернадский ввел Лескова в Политико-экономический комитет Императорского географического общества и в Комитет грамотности при третьем отделении Вольного экономического общества. Николай ходил на заседания с удовольствием, обсуждал то, что сам знал и видел, работая у Шкотта: положение и доходы управляющего имением, переселение крестьян на новые земли, аренду земли крестьянами, кредитование земскими банками, – а затем отправлял отчеты о работе комитетов в разные издания: «Экономист» (еще один журнал Вернадского), «Русскую речь», «Время», «Книжный вестник», что, впрочем, не помешало ему полтора года спустя назвать эти комитеты «говорильнями»
, а Вернадского пнуть за узость и устарелость экономических взглядов. Поиронизировал Лесков над комитетами и в повести «Смех и горе» (1871). Правда, статья о «говорильнях» вышла без подписи, но это не слишком меняет дело: быть благодарным Лесков действительно не любил, что подтвердила и более поздняя история с Е. В. Салиас-де-Турнемир.
Пока же бывший канцелярист и коммивояжер на глазах становился профессиональным журналистом и благодаря этому вошел в либеральные круги, оказавшись среди самых активных сторонников реформ и даже конституции. О необходимости конституции и ослабления цензуры начал писать и «Указатель экономический», но вскоре после этого, в марте 1861 года, был закрыт по постановлению Главного управления цензуры[25 - Цензор А. В. Никитенко записал в дневнике 25 февраля 1861 года: «Вернадский, по словам члена, барона Бюлера (сотрудника Главного управления цензуры. – М. К.), неистовствуя в своем “Экономическом указателе” против правил цензуры, дошел, наконец, до того, что начал ясно говорить о необходимости конституции в России. Решено: призвать его в следующее заседание Главного управления цензуры и объявить, что, так как он уже неоднократно доказал, что не заслуживает доверия правительства, то ему при первой выходке запрещено будет издавать журнал. Некоторые из членов требовали немедленного запрещения, но я уговорил Тимашева (начальник штаба корпуса жандармов и управляющего Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии. – М. К.), сидевшего возле меня, удовольствоваться на этот раз выговором. С нами согласились и другие» (Никитенко А. В. Записки и дневник: В 3 т. М., 2005. Т. 2. С. 243–244. См. также: Сурнина И. А. Цензура и «Экономический указатель» И. В. Вернадского 1857–1861 годов // Филологические науки: Вопросы теории и практики. № 2 (80). Ч. 2. С. 244–249.]. Интересно, что, выступая за свободу торговли и частную собственность, за невмешательство государства в частное предпринимательство, издатель «Указателя экономического», в отличие от редакции «Современника», не считал нужным сохранять крестьянскую общину, по его мнению, плодившую тунеядцев. Однако, не совпадая во взглядах с социалистами и революционерами, профессор Вернадский не отказывал им от дома. Именно через Вернадского познакомился с ними и Лесков.
В пылу либерализма
В квартире Ивана Васильевича жил тогда и Андрей Иванович Ничипоренко – он был репетитором сына хозяина, Николая. (Отметим, что самый знаменитый Вернадский, Владимир – академик, натуралист и философ, именем которого век спустя назвали московский проспект и станцию метро, – родился во втором браке Ивана Васильевича с кузиной Марии Николаевны Анной Петровной Константинович.)
Лесков и Ничипоренко подружились. Вместе ходили на заседания Комитета грамотности
, сотрудничали с «Указателем экономическим», после смерти Шевченко пришли в дом поэта почтить его память. Ничипоренко был известен тем, что разносил по домам Петербурга герценовский «Колокол», за что и получил, по свидетельству Лескова, прозвище «Андрея Удобоносительного»
.
Но в романе «Некуда», где Ничипоренко выведен под именем революционера Пархоменко, и в документальном очерке «Загадочный человек» (1870) Лесков пишет о бывшем приятеле брезгливо, почти с отвращением. Пархоменко в «Некуда» – «шальной, дурашливый петербургский хохлик, что называется “безглуздая ледащица”»
. В «Загадочном человеке», где Нечипоренко назван уже своим именем, дан еще один его нелестный портрет:
«…замечательно нехорош собою от природы и, кроме своей неблагообразности, он был страшно неприятен своим неряшеством и имел очень дурные манеры и две отвратительнейшие привычки: дергать беспрестанно носом, а во время разговора выдавливать себе пальцем из орбиты левый глаз»
.
Нещадно ругая «первого русского революционера»
, впоследствии члена общества «Земля и воля», о своей, пусть и недолгой, дружбе с ним Лесков умалчивает, несмотря на то, что в 1861–1862 годах он, возможно, даже участвовал в составлении революционной прокламации «Русская правда»
. Два ее выпуска, вышедшие в марте и апреле 1862 года, посвящались польским событиям и выражали сочувствие полякам, гонимым русским правительством. Но в июле началось «дело 32-х» о связях оставшихся в России революционеров «с лондонскими пропагандистами» Герценом и Огаревым – один из самых крупных политических процессов 1860-х, продолжавшийся три года. Ничипоренко был арестован и не дожил до развязки – умер в Петропавловской крепости.
Лесков сделал всё, чтобы замаскировать свою близость с ним и его единомышленниками. Автобиографический персонаж романа «Некуда» доктор Розанов приятельствует с подпольщиками, но индифферентен к их деятельности, а потом и вовсе сжигает отпечатанные в тайной типографии прокламации и выбрасывает в реку литографский камень. Сам Лесков едва ли жёг прокламации (во всяком случае об этом ничего не известно), однако о существовании тайной типографии он, конечно, знал и мог быть признан сообщником.
В записке 1866 года петербургского обер-полицмейстера говорится: «Елисеев. Слепцов. Лесков. Крайние социалисты. Сочувствуют всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах»
. Обер-полицмейстер сильно опоздал с выводами – в 1866 году крайним социалистом Лесков давно не был.
И всё же вряд ли Лесков пытался отмежеваться от русских революционеров исключительно «страха ради иудейска»; к моменту написания «Некуда» он действительно давно перестал разделять их взгляды. А к некоторым друзьям революционной молодости он сохранил добрые чувства на всю жизнь.
Первый из них – Артур Бенни, англичанин по матери, полунемец-полуитальянец по отцу, на деле «безродный космополит»: вырос в Польше, социалистом и революционером стал в Лондоне. Лесков посвятил ему очерк «Загадочный человек», а в романе «Некуда» вывел в образе благородного, но немного нелепого Вильгельма Райнера. Бенни, искренне любивший и жалевший Россию, с детства владевший русским языком, приехал из Лондона в Петербург делать социально-демократическую революцию. Лесков любил его за благородство натуры, бескорыстие, верность высокой цели и почти умилялся наивности иностранца, который пытался помочь «русским братьям», не зная страны и ее нравов. Вскоре новообретенные братья обвинили Бенни в связях с Третьим отделением, в сущности, объявили шпионом – как показал Лесков в «Загадочном человеке» и подтвердили позднейшие разыскания историков, совершенно необоснованно. В этой клевете Лесков подозревал Ничипоренко.
Бенни также был привлечен к «делу 32-х», но не арестован, а выслан из России, в которую никогда уже не смог вернуться. Бенни погиб в гарибальдийском отряде в январе 1868 года, вскоре после этого Лесков взялся за повесть о нем. В позднейшем письме Суворину Лесков писал, что именно «клевета на честнейшего человека»
. Замечательно, что изрядная их часть – уличные листки, юмористические, шутливые эфемериды: «Бардадым», «Бессонница-шутница», «Весельчак», «Дядя шут гороховый», «Ералаш», «Попугай», «Пустомеля», «Пустозвон», «Шутник», «Фонарь», «Чепуха», «Юморист». Один из таких листков, «Щелчок», сообщал, что его редакция «находится в кармане, карман в сюртуке, сюртук на редакторе, а редактор в Петербурге». Еще задорнее бренчала «Бесструнная балалайка» – «листок забавного смехословия и потешного пустословия», весь написанный раешным стихом.
Глядя на эти названия, физически ощущаешь прибавление весны и веселья в воздухе. Общество наконец задышало, ему дозволено было просто шутить, потешаться, в том числе над собой. Но в списке зарегистрированных в 1858 году изданий немало и серьезных. Почти все они были связаны с экономикой, землевладением, каждое уделяло внимание готовящейся крестьянской реформе: и основательный «Вестник промышленности» Федора Васильевича Чижова (это ему будет адресовано первое сохранившееся письмо Лескова за 1859 год), и идеологически близкая «Указателю экономическому» газета «Промышленный листок», и славянофильский журнал «Сельское благоустройство», и «Журнал землевладельцев», и «Экономист», основанный Иваном Васильевичем Вернадским как приложение к «Указателю экономическому». Параллельно, впрочем, расцвел и «Подснежник» Владимира Николаевича Майкова, родного брата критика Валериана и поэта Аполлона (не в честь ли стихотворения последнего названный?). Это был журнал для детей и юношества, быть может, чрезмерно благопристойный, но со своим лицом и сильным авторским составом. Опусы безвестных сочинителей приятно разбавлялись текстами И. А. Гончарова, Д. В. Григоровича, Марко Вовчка, Чарлза Диккенса и Гарриет Бичер-Стоу.
Но новым газетам и журналам нужны были новые авторы – сотни страниц ежемесячных, ежедневных литературных изданий необходимо было заполнять. «Время нас делало литераторами, а не наши знания и дарования»
, – заметит Лесков несколько лет спустя.
В изящную словесность приходили теперь не из лицеев и университетов, не из родительских библиотек, забитых французскими и английскими романами, которые так уютно читать в беседке наследственного имения, под несущиеся из распахнутых окон звуки рояля (матушка решила помузицировать), не из литературных салонов – теперь авторы срывались «кто с бора, кто с сосенки»
. Перли из семинарий и духовных училищ, из купеческих лавок, с барок и разъезжавших по пеклу и пыли российских дорог таратаек или прямо с трактов, по которым они упрямо шли день за днем, месяц за месяцем, как, например, писатель Александр Иванович Левитов, который дважды приходил в Москву пешком. В российскую изящную словесность притопали плебеи. Литературные аристократы отвернулись и зажали носы.
Почему они вдруг явились – эти нечесаные дети дьячков и священников, эти бурсаки, «моя консистория», как отечески звал их дворянин Некрасов, эти сыновья вчерашних крепостных или в лучшем случае уездных врачей, эти бывшие приказные, учителя народных училищ, не окончившие курс студенты-медики, а если уж дворяне, то «колокольные», как Лесков? Потому что литература нуждалась в них, как в воздухе, пусть воздух этот был пропитан вонью постоялых дворов, мужицкого пота и навоза. Но это было даже хорошо. Язык не поворачивался назвать создаваемую ими новую словесность изящной, они изменили ее облик. Их деды, подобно деду тургеневского Базарова, землю пахали; но и у них самих под ногтями было черно – и это была грязь реальная, которую увидела в своем втором сне Вера Павловна, героиня романа Чернышевского «Что делать?», и убедилась, что в такой грязи ничего дурного нет.
Лесков спрыгнул в столичную журнальную жизнь с замызганного возка Шкотта. Его первые заметки проклюнулись из-под талого снега на обочинах столбовых дорог, выросли из разъездов по российским губерниям не подснежниками – молодыми упрямыми кустами в настырных почках.
Он умел говорить с торговым людом, ямщиком, ремонтером, хозяином постоялого двора. Житейского опыта у него было в избытке, литературного – ноль. По киевскому случаю с корреспоненцией о продаже Евангелия он уже испытал: слово может кое-что изменить. По истории с заметкой о полицейских врачах узнал и о том, что публичное слово в России страшит высокое начальство. Но не испугался. Доктор Вальтер защищал его, немногочисленные единомышленники были рядом, а государство далеко, высоко. Сражаться с ним было даже весело, и он отправился в Петербург – бороться за правду дальше. Он ведь ненавидел всяческую ложь.
Лесков ехал в столицу, чтобы стать профессиональным журналистом. Вряд ли тогда, в январе 1861 года, он думал о писательстве. В такую туманную даль он, скорее всего, не заглядывал. И без того он совершил поступок чрезвычайно дерзкий, поменяв не только место жительства, но и участь, порвав и с чиновничьим, и с коммерческим прошлым, ступив на совершенно новую дорогу.
И впервые оказался один, без родных. В Киеве его поддерживал дядюшка, в селе Райском – тетушка, ангелоподобная Александра Петровна, и ее энергичный супруг. Родственные связи создавали ощущение тыла – не самого надежного и, как выяснилось, не такого уж долговечного. Тем не менее на предыдущих поприщах рядом с ним шагали люди, для которых он был не обязательно любимый, но уж точно свой, по праву крови. В Петербурге всё оказалось иначе.
Давний приятель доктора Вальтера, уроженец Киева Вернадский готов был помочь способному журналисту, но в известных пределах, ограниченных другими делами. К тому же он был скорее ученый, лектор, никак не литератор, от мира искусства человек далекий. Лескова же, похоже, тянуло именно в этот пока неведомый ему мир.
Сразу по приезде он отправился к Тарасу Григорьевичу Шевченко. Об опальном «кобзаре» он впервые узнал еще в Орле от Марковича и затем, наверное, встречал его в Киеве: некоторое время Шевченко жил в доме лесковского тестя. Они виделись год назад в Петербурге, куда Лесков приезжал еще по делам компании Шкотта
. На этот раз они проговорили не так долго, Шевченко подарил ему свой «Букварь южно-руский», который составил для обучения грамоте на малороссийском языке в воскресных школах. Сам этот поступок – приехав в столицу, явиться к не самому близкому знакомому, однако поэту и художнику – выдает желание обрести связи в столичном литературном и артистическом мире. Встреча оказалась последней, через месяц Шевченко умер. Лесков посвятил его памяти теплую и печальную заметку
.
Именно к этому времени относится первый известный нам словесный портрет Лескова, исполненный библиографом и поэтом Петром Васильевичем Быковым:
«Впервые увидел я Лескова в редакции “Политико-экономического указателя”, издававшегося профессором Иваном Васильевичем Вернадским. Николай Семенович был здесь при одном из своих наездов в Петербург из Киева и доставил статейку “Об ищущих коммерческих мест в России”, где он хотел уяснить для читающей массы “разумение жизни”. Я сидел в приемной как раз против двери редакторского кабинета. Из нее вышел среднего роста, плотного сложения, красивый молодой человек, лет около тридцати. Профессор познакомил нас, и Лесков вперил в меня взгляд, слишком внимательный, от которого мне стало как-то не по себе. Но в общем новый мой знакомый производил впечатление обаятельное. Таким предстал предо мною Лесков. Мне было в высшей степени приятно выйти с ним вместе из редакции и вести беседу, в которой сказывалась его необычайная деловитость, серьезность не по возрасту»
.
В достоверности приведенного описания есть серьезные сомнения
. Скорее всего, Быков познакомился с Лесковым значительно позднее и сочинил этот портрет, опираясь на дагеротипы той поры и свои поздние впечатления. К тому же коренаст, статен – да, но красив Лесков всё-таки не был. В любом случае Быков благоразумно размещает эту, возможно, и мифическую встречу рядом с кабинетом профессора Вернадского.
Иван Васильевич Вернадский окончил словесное отделение Киевского университета, но вскоре, будучи отправлен в Европу изучать политэкономию, из словесника сделался экономистом и статистиком. Вернувшись в Россию, он получил звание профессора Киевского, а затем Московского университета. В 1856 году Вернадский переехал в Петербург, поступив на службу в Министерство внутренних дел, не оставив, впрочем, преподавания. Но быть может, самым удачным его предприятием стала женитьба.
Мария Николаевна Вернадская, урожденная Шигаева, одна из первых русских феминисток в самом спокойном смысле этого слова – та, что уловила дыхание весны в общественном воздухе, происходила из хорошей дворянской семьи. Отец ее служил в департаменте государственной экономии Государственного совета, затем был товарищем (заместителем) министра финансов, в молодости переводил Вальтера Скотта и Поля де Кока, так что разговоры и на экономические, и на литературные темы Мария Николаевна слушала с юных лет. Она не сомневалась, что экономические знания способствуют росту благосостояния граждан, и предложила мужу открыть первый в России специализированный политэкономический журнал.
В 1857 году еженедельник «Указатель экономический» начал выходить в свет, в 1861-м изменил название на «Указатель экономический, политический и промышленный». Здесь публиковались статьи о свободной торговле, защите труда, податях, популярных на Западе финансовых идеях, краткие обзоры дискуссий политэкономических обществ в Европе, переводы иностранных статей и рецензии на российские и зарубежные книги по политэкономии. Все эти по преимуществу теоретические знания издатели пытались спроецировать на российскую действительность. Поэтому были здесь и заметки об «участи лошадей и состоянии дорог», и отчеты о ценах на зерно, масло, пушнину, и подробные сводки криминальных новостей в рубрике «Хроника несчастий в России», полные хтонической российской жути.
Хроники рассказывали, как крестьяне избивали, а часто и убивали своих жен, жены не оставались в долгу и травили мужей мышьяком; сообщали о бесчисленных несчастных случаях: кто-то случайно поджег собственную избу; другой опустил двенадцатилетнего сына в колодец для чистки на гнилой веревке, веревка оборвалась, а мальчик погиб; измученные работой молодые крестьянки ночью часто «засыпали» (нечаянно душили) своих младенцев. «Губительно действует беспечность нашего простолюдина; но его ли вина, что он до сих пор остается в совершенном невежестве? Его ли вина, что мрачный быт его до сих пор не озаряется светом образования?» – вопрошал журнал, из номера в номер рассказывая о новых и новых несчастьях с одной лишь целью: напомнить о необходимости просвещения «народной массы, коснеющей в невежестве самом безотрадном».
Журнал с такими повесткой и идеологией остро нуждался в корреспондентах «с мест». Одним из них и стал киевлянин Лесков. Он познакомился с Вернадским, по-видимому, еще осенью 1859 года, когда приезжал в столицу как поверенный компании «Шкотт и Вилькенс». Вероятно, тогда же они договорились о сотрудничестве. Со второй половины 1860 года «Указатель экономический» постоянно публиковал корреспонденции Лескова под заголовком «Вести из Киева», без подписи. Лесков рассказывал читателям основные городские новости: о мощении улиц, об открытии книгопродавцем Барщевским кабинета для чтения, о курсе физиологии, который прочтет для желающих профессор А. П. Вальтер, об открытии в Киеве женских воскресных школ, о благотворительных музыкальных вечерах, об учреждении новых газет, о строительстве общественной бани и новой тюрьмы
. С политэкономией это напрямую связано не было, но давало ценную для журнала панораму российской жизни.
Приехав в Петербург, Марию Николаевну Лесков уже не застал в живых – она скончалась от болезни почек на руках у мужа в Гейдельберге, по пути на курорт Монтрё. Овдовевший Вернадский принимал Лескова спустя всего два месяца, вероятно, радуясь возможности заполнить образовавшуюся пустоту, еще вероятнее – из чувства долга.
Выпуск журнала продолжался. В «Указателе экономическом» появилось еще несколько публикаций Лескова, написанных всё в том же духе протеста против русского мрака: в 1860 году – «Заметка», «Письма к редактору», «Несколько слов о местах распивочной продажи хлебного вина, водок и меда», «Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России»; в 1861-м – «Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе», «Торговая кабала».
Самое начало 1860-х стало еще и эпохой комитетов, которые должны были способствовать реформам. Вернадский ввел Лескова в Политико-экономический комитет Императорского географического общества и в Комитет грамотности при третьем отделении Вольного экономического общества. Николай ходил на заседания с удовольствием, обсуждал то, что сам знал и видел, работая у Шкотта: положение и доходы управляющего имением, переселение крестьян на новые земли, аренду земли крестьянами, кредитование земскими банками, – а затем отправлял отчеты о работе комитетов в разные издания: «Экономист» (еще один журнал Вернадского), «Русскую речь», «Время», «Книжный вестник», что, впрочем, не помешало ему полтора года спустя назвать эти комитеты «говорильнями»
, а Вернадского пнуть за узость и устарелость экономических взглядов. Поиронизировал Лесков над комитетами и в повести «Смех и горе» (1871). Правда, статья о «говорильнях» вышла без подписи, но это не слишком меняет дело: быть благодарным Лесков действительно не любил, что подтвердила и более поздняя история с Е. В. Салиас-де-Турнемир.
Пока же бывший канцелярист и коммивояжер на глазах становился профессиональным журналистом и благодаря этому вошел в либеральные круги, оказавшись среди самых активных сторонников реформ и даже конституции. О необходимости конституции и ослабления цензуры начал писать и «Указатель экономический», но вскоре после этого, в марте 1861 года, был закрыт по постановлению Главного управления цензуры[25 - Цензор А. В. Никитенко записал в дневнике 25 февраля 1861 года: «Вернадский, по словам члена, барона Бюлера (сотрудника Главного управления цензуры. – М. К.), неистовствуя в своем “Экономическом указателе” против правил цензуры, дошел, наконец, до того, что начал ясно говорить о необходимости конституции в России. Решено: призвать его в следующее заседание Главного управления цензуры и объявить, что, так как он уже неоднократно доказал, что не заслуживает доверия правительства, то ему при первой выходке запрещено будет издавать журнал. Некоторые из членов требовали немедленного запрещения, но я уговорил Тимашева (начальник штаба корпуса жандармов и управляющего Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии. – М. К.), сидевшего возле меня, удовольствоваться на этот раз выговором. С нами согласились и другие» (Никитенко А. В. Записки и дневник: В 3 т. М., 2005. Т. 2. С. 243–244. См. также: Сурнина И. А. Цензура и «Экономический указатель» И. В. Вернадского 1857–1861 годов // Филологические науки: Вопросы теории и практики. № 2 (80). Ч. 2. С. 244–249.]. Интересно, что, выступая за свободу торговли и частную собственность, за невмешательство государства в частное предпринимательство, издатель «Указателя экономического», в отличие от редакции «Современника», не считал нужным сохранять крестьянскую общину, по его мнению, плодившую тунеядцев. Однако, не совпадая во взглядах с социалистами и революционерами, профессор Вернадский не отказывал им от дома. Именно через Вернадского познакомился с ними и Лесков.
В пылу либерализма
В квартире Ивана Васильевича жил тогда и Андрей Иванович Ничипоренко – он был репетитором сына хозяина, Николая. (Отметим, что самый знаменитый Вернадский, Владимир – академик, натуралист и философ, именем которого век спустя назвали московский проспект и станцию метро, – родился во втором браке Ивана Васильевича с кузиной Марии Николаевны Анной Петровной Константинович.)
Лесков и Ничипоренко подружились. Вместе ходили на заседания Комитета грамотности
, сотрудничали с «Указателем экономическим», после смерти Шевченко пришли в дом поэта почтить его память. Ничипоренко был известен тем, что разносил по домам Петербурга герценовский «Колокол», за что и получил, по свидетельству Лескова, прозвище «Андрея Удобоносительного»
.
Но в романе «Некуда», где Ничипоренко выведен под именем революционера Пархоменко, и в документальном очерке «Загадочный человек» (1870) Лесков пишет о бывшем приятеле брезгливо, почти с отвращением. Пархоменко в «Некуда» – «шальной, дурашливый петербургский хохлик, что называется “безглуздая ледащица”»
. В «Загадочном человеке», где Нечипоренко назван уже своим именем, дан еще один его нелестный портрет:
«…замечательно нехорош собою от природы и, кроме своей неблагообразности, он был страшно неприятен своим неряшеством и имел очень дурные манеры и две отвратительнейшие привычки: дергать беспрестанно носом, а во время разговора выдавливать себе пальцем из орбиты левый глаз»
.
Нещадно ругая «первого русского революционера»
, впоследствии члена общества «Земля и воля», о своей, пусть и недолгой, дружбе с ним Лесков умалчивает, несмотря на то, что в 1861–1862 годах он, возможно, даже участвовал в составлении революционной прокламации «Русская правда»
. Два ее выпуска, вышедшие в марте и апреле 1862 года, посвящались польским событиям и выражали сочувствие полякам, гонимым русским правительством. Но в июле началось «дело 32-х» о связях оставшихся в России революционеров «с лондонскими пропагандистами» Герценом и Огаревым – один из самых крупных политических процессов 1860-х, продолжавшийся три года. Ничипоренко был арестован и не дожил до развязки – умер в Петропавловской крепости.
Лесков сделал всё, чтобы замаскировать свою близость с ним и его единомышленниками. Автобиографический персонаж романа «Некуда» доктор Розанов приятельствует с подпольщиками, но индифферентен к их деятельности, а потом и вовсе сжигает отпечатанные в тайной типографии прокламации и выбрасывает в реку литографский камень. Сам Лесков едва ли жёг прокламации (во всяком случае об этом ничего не известно), однако о существовании тайной типографии он, конечно, знал и мог быть признан сообщником.
В записке 1866 года петербургского обер-полицмейстера говорится: «Елисеев. Слепцов. Лесков. Крайние социалисты. Сочувствуют всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах»
. Обер-полицмейстер сильно опоздал с выводами – в 1866 году крайним социалистом Лесков давно не был.
И всё же вряд ли Лесков пытался отмежеваться от русских революционеров исключительно «страха ради иудейска»; к моменту написания «Некуда» он действительно давно перестал разделять их взгляды. А к некоторым друзьям революционной молодости он сохранил добрые чувства на всю жизнь.
Первый из них – Артур Бенни, англичанин по матери, полунемец-полуитальянец по отцу, на деле «безродный космополит»: вырос в Польше, социалистом и революционером стал в Лондоне. Лесков посвятил ему очерк «Загадочный человек», а в романе «Некуда» вывел в образе благородного, но немного нелепого Вильгельма Райнера. Бенни, искренне любивший и жалевший Россию, с детства владевший русским языком, приехал из Лондона в Петербург делать социально-демократическую революцию. Лесков любил его за благородство натуры, бескорыстие, верность высокой цели и почти умилялся наивности иностранца, который пытался помочь «русским братьям», не зная страны и ее нравов. Вскоре новообретенные братья обвинили Бенни в связях с Третьим отделением, в сущности, объявили шпионом – как показал Лесков в «Загадочном человеке» и подтвердили позднейшие разыскания историков, совершенно необоснованно. В этой клевете Лесков подозревал Ничипоренко.
Бенни также был привлечен к «делу 32-х», но не арестован, а выслан из России, в которую никогда уже не смог вернуться. Бенни погиб в гарибальдийском отряде в январе 1868 года, вскоре после этого Лесков взялся за повесть о нем. В позднейшем письме Суворину Лесков писал, что именно «клевета на честнейшего человека»