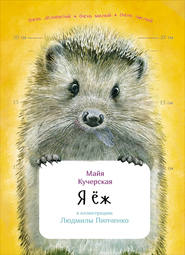По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лесков: Прозёванный гений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Внимание к звучащей речи делает Левитова одним из самых близких Лескову писателей-шестидесятников. Разумеется, стилизация под народную речь к 1860-м годам давно не была новостью, во многом благодаря прозе Владимира Даля – без нее, а не только его словаря сочинения Левитова и Лескова скорее всего были бы другими.
Лесков впитывал всё, что читал и слышал, учился писать на общественные темы, думать, спорить; что-то в участниках кружка его смешило, что-то нравилось. Нравился и он – умный, яркий, даровитый, тогда казалось – «обучаемый». Он стал своим человеком у графини Салиас; домашнее, частное уже и не отделялось от редакционного, профессионального. Прошло спокойное, уютное лето, полное свободы и шумных, но мирных бесед. В Петербург Лесков пока не собирался – обжился, прижился на Большой Садовой.
И тут грянуло, загрохотало.
В Москву явилась Ольга Васильевна с Верой. За свободные от жены и дочки полгода Лесков словно бы подзабыл, что они живут где-то в далеком Киеве.
В надежде соединиться или поставить все точки над «i» и расстаться окончательно приехала Ольга Васильевна? Возможно, она и сама ясно этого не понимала. Наверное, устала быть «соломенной вдовой». В «Некуда» Лесков так описывает внезапный приезд жены героя, Дмитрия Петровича Розанова:
«Нынешний раз процесс этот совершился даже гораздо быстрее: Ольга Александровна обругала мужа к вечеру же на второй день приезда и объявила, что она возвратилась к нему только для того, чтобы как должно устроиться и потом расстаться. <…> Ребенок, по мнению доктора, был дурно содержан в течение лета. Девочка вернулась, нимало не поправившись, такая же изнеженная, слабая, вдобавок с некоторыми, весьма нехорошими, по мнению Розанова, наклонностями. С первого же указания на это Ольга Александровна поставила себя в отношении к мужу на военное положение. Ее всегдашняя бесцеремонность в обращении с мужем не только нимало не смягчилась от долговременного общения с углекислыми феями, но, напротив, стала еще резче. К тому же Ольга Александровна вообразила себе, что она в кого-то платонически влюблена и им платонически любима. При столь благоприятных шансах Ольга Александровна хотела быть нарочито решительною: – развод, и кончено. Прошла неделя, другая – содом не унимался. Розанов стал серьезно в тупик. Скандал скандалом, но и ребенка жаль, да куда же деться? а жить порознь в Москве, в виду этого самого кружка, он ни за что бы не согласился»
.
Немало зачерпнуто здесь из его собственной жизни: дочка, недовольство отца ее содержанием, скандалы с женой. В романе «Некуда» Розанов перед женой невиновен. А сам Лесков?
«Жили мы тогда, – вспоминал А. С. Суворин, – на Б[олыпой] Садовой, против Ермолая, во флигеле, который отдала нам графиня Салиас после того, как Н. С. Лесков, занимавший этот флигель, уехал в Петербург, после скандальных историй со своей женой… Она приходила к графине и Новосильцевым[30 - Сёстры Новосильцевы – Екатерина Владимировна (1820–1885), писательница, историк, и Софья Владимировна, в замужестве Энгельгардт (1828–1894), писательница, сотрудница газеты «Русская речь».] и жаловалась.
Раз она убежала от него, и он подал заявление в полицию»
.
Писатель И. И. Ясинский в романе «Лицемеры» (1893) выводит во многом списанного с Лескова купца Хаврушина, который рассказывает, как жил с женой: «Скопил я десять тысяч и стал задумываться, как от нее отделаться… Принялся я ее щипать, схвачу и поверну круто, прекруто; сделал одну браслетку, другую; стал надевать браслетку на браслетку, и так до плеч довел. Мозг у меня горит… Обвел ожерелье вокруг шеи – синее твоего са[п]фира, Эм[м]ануил Давидович; побежала у меня пена изо рта»
. Только в романе Ясинского заявление в полицию подает сама купчиха. Ясинский, бывший на 20 лет моложе Лескова, писал свою карикатуру, опираясь на слухи. Но слухи эти были до того устойчивы, что докатились до начала 1890-х.
Суворин 29 ноября 1861 года писал Михаилу Де-Пуле: «Лесков уехал – оказался негодяем страшным, и мы его выжили»
.
Этого «мы» Лесков так и не простил до конца участникам московских событий. Только с Сувориным он потом примирился, с остальными от всей души расквитался в «отмщевательном» романе «Некуда», дав уничтожающие характеристики и сестрам Новосильцевым, и Феоктистову, и бледному, вечно просящему взаймы Левитову, но с особенной безжалостностью разделался с графиней Салиас. Непоследовательная, легко увлекающаяся, но совершенно безвредная, безопасная, добрая «Сальясиха» помогла Лескову расширить круг литературных знакомств, углубить журналистский опыт, обеспечила достойным заработком и в итоге литературным именем – обо всём этом было забыто. Зато в «Некуда» появилась комичная и жалкая «углекислая фея» маркиза де Бараль, списанная с графини:
«Маркизе было под пятьдесят лет. Теперь о ее красоте, конечно, уже никто и не говорил; а смолоду, рассказывали, она была очень неавантажна. Маленькая, вертлявая и сухая, с необыкновенно подвижным лицом, она была весьма непрезентабельна. Рассуждала она решительно обо всём, о чем вы хотите, но более всего любила говорить о том, какое значение могут иметь просвещенное содействие или просвещенная оппозиция просвещенных людей, “стоящих на челе общественной лестницы”. Маркиза не могла рассуждать спокойно и последовательно; она не могла, так сказать, рассуждать рассудительно. Она, как говорят поляки, “miala zaj дса w glowie[32 - Имела зайца в голове (польск.).] ”, и этот заяц до такой степени беспутно шнырял под ее черепом, что догнать его не было никакой возможности. Даже никогда нельзя было видеть ни его задних лапок, ни его куцого, поджатого хвостика. Беспокойное шнырянье этого торопливого зверка чувствовалось только потому, что из-под его ножек вылетали “чела общественной лестницы” и прочие умные слова, спутанные в самые беспутные фразы»
.
Маркиза в «Некуда» нелепа, неумна и окружена как льстивыми, так и беспардонными «друзьями». В ее доме живут канарейка и попугай. Попугай, между прочим, существовал в действительности и чуть не клюнул в начищенный сапог начинающего литератора Суворина, явившегося представиться графине.
За что же Лесков отомстил Елизавете Васильевне всего три года спустя после самого тесного сотрудничества?
За всё вместе. За беспутную, как казалось ему потом, литературную молодость; за старт в издании средней руки; за приятельство с людьми, которые вскоре станут его врагами. Но главное – за то, что графиня участвовала в его личной драме, пыталась примирить его с женой и явно жалела Ольгу Васильевну, приняв, как и весь московский кружок, ее сторону. И за то, что в ее глазах он «прослыл зверем»
. Позднее Лесков готов был признать, что с маркизой де Бараль всё-таки погорячился, и, кажется, даже передал Евгении Тур изысканный литературный привет. «Жемчужное ожерелье» называлась одна из поздних ее сказок, а потом и сборник
. «Жемчужное ожерелье» назвал один из лучших своих святочных рассказов 1885 года Лесков, ласково и весело окликнув в нем «матримониальную» тему, сквозную в прозе Елизаветы Васильевны, а возможно, и ее саму.
«Северная пчела» и третий путь
С кружком Евгении Тур Лесков порвал вскоре после приезда супруги с дочкой – осенью 1861 года. До конца ноября он еще вел в журнале внутреннее обозрение, пока его не сменил Суворин. Из Москвы Лесков переехал в Петербург, теперь уже навсегда. С 1 января 1862 года он начал сотрудничать с газетой «Северная пчела». Это было во всех отношениях лучше: работа в крупной столичной газете позволила заострить публицистическое перо и шагнуть на следующий уровень журналистского мастерства.
В 1860 году «Северную пчелу» возглавил давний ее сотрудник и редакционный секретарь Павел Степанович Усов. Времена Булгарина и Греча, когда-то создавших эту газету и определявших ее политику на протяжении тридцати с лишним лет, ушли в прошлое. Жало ее давно затупилось, в материалах царила, по выражению Белинского, «золотая посредственность». Да и немодно стало сражаться с вольнодумцами и конституцией; теперь любое издание, желавшее быть на слуху, просто обязано было числить себя либеральным. И Усов делал всё, чтобы сложившаяся при Грече и Булгарине репутация «Северной пчелы» как газеты продажной, проправительственной и неприличной поскорее разрушилась.
У него были свои мании. Одна из них – англофильство.
Воспитанник частного английского пансиона Гирста, выпускник физико-математического факультета Петербургского университета, Усов с юности читал и любил английские газеты. Однажды он даже опубликовал в знаменитом британском журнале «Экономист» статью о торговле салом в России
. И теперь очень надеялся нацепить на «Северную пчелу» цилиндр истинного английского джентльмена, а именно – открывать каждый номер leading article — передовой статьей с обозрением внешней политики. Его мечта исполнилась даже до того, как он возглавил газету: именно «Северная пчела» образца 1857 года впервые в России опубликовала передовицу с обзором внешнеполитической ситуации. Этого не случилось бы без резолюции цензора Министерства иностранных дел, которым был тогда поэт Федор Иванович Тютчев, – именно он «безо всякого затруднения» дал передовицам «права гражданства»
.
Став в 1860 году у кормила «Северной пчелы» и одновременно сделавшись ее половинным владельцем (Булгарин продал ему свою часть, вторая половина принадлежала Гречу), Павел Степанович надеялся открыть газетные площади для свободного обсуждения острых общественных проблем, превратить свое издание в российский аналог лучших европейских – иначе говоря, создать авторитетную, респектабельную, космополитичную газету. Он пригласил авторов совсем иного, чем у Греча с Булгариным, направления: социалистов Василия Слепцова и Артура Бенни, литературных пролетариев Александра Левитова и Федора Решетникова, собирателя народной поэзии Павла Якушкина, Марко Вовчка и Владимира Даля. Одновременно с газетой сотрудничал П. И. Мельников (Андрей Печерский), публиковавший в ней очерки о расколе и, между прочим, не скрывавший своих вполне консервативных взглядов, а также Евгения Тур («Северная пчела» разместила, например, ее знаменитую рецензию на тургеневских «Отцов и детей», предложившую новую формулу замысла нашумевшего романа: «ни отцы, ни дети»). Лесков относил себя к лагерю «постепеновцев», оппонентов «нетерпеливцев»[33 - Эти определения появились у Лескова в цикле очерков «Из одного дорожного дневника» и потом использовались им неоднократно: в романе «Некуда», очерке «Русское общество в Париже» (1863, 1867) и «Товарищеских воспоминаниях о П. И. Якушкине» (1884).]. В той же умеренной партии желал числить себя и новый издатель «Северной пчелы», стараясь двигаться точно посередине между консерваторами и радикалами. Передовицы Лескова, занимавшие верхние столбцы газеты, это направление довольно последовательно центровали.
Лесков отстаивал право на независимость суждений, уже привычно упрекая либералов в том, что они «тирански кладут каждую личную свободу на прокрустово ложе», а журнал «Современник» – в «деспотствующем либерализме»
. Но пока не отбушевала общая радость по поводу повеявшей в воздухе весны, состоявшихся и грядущих реформ, это не означало окончательного разрыва с «нетерпеливцами», «постепеновцы» всё еще были с ними во многом заодно. Но весна уже плавилась и таяла, близилось лето, воздух дышал жаром, вот-вот должны были вспыхнуть знаменитые пожары, спалившие последние иллюзии.
Однако пока Лесков стоял за «непонятный правильный прогресс», как выразилась одна героиня «Некуда» про доктора Розанова. Это значило: за просвещение крестьян, хотя бы и с помощью самой доступной народу книги – Библии, за борьбу с их невежеством в ведении хозяйства; за изучение как собственной, так и мировой истории[34 - Передовицы Лескова, опубликованные в «Северной пчеле» в 1862–1863 годах, убедительно атрибутированы (см.: Видуэцкая И. П. Передовые статьи по вопросам внутренней жизни России в «Северной пчеле» (1862–1863) // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 787–858).]:
«…забывчивость, одна из наших слабостей… Что до нас, то мы… особенно скорбим о недостатке в нашем обществе знакомства с историею человечества. История учит многому…»
Не раз говорил он и о преодолении изоляционизма, отказе от веры в уникальность русского пути, на которой настаивали славянофилы и газета «День», взявшая на себя роль «опекуна младенствующей и развращаемой западною цивилизацию Руси», который «с нежною любовью старого дядьки пестует своего тысячелетнего младенца»
. Лесков не сомневался, что на «гнилом Западе», как язвительно цитировал он оппонентов, люди «подняты цивилизациею на другую ступень гражданственности»
и что Россия уже движется похожим путем, но пока сильно отстает в развитии, а потому вполне может поучиться у просвещенных соседей.
Вот только двигаться к преображению нужно постепенно, не выжигая старинных привычек огнем и мечом. Мгновенно изменить то, что складывалось столетиями, невозможно, да и не всегда нужно. Вскачь не напашешься; воробьи торопились да маленькими уродились.
«“Если ты не с нами, так ты подлец’". Держась такого принципа, наши либералы предписывают русскому обществу разом отречься от всего, во что оно верило и что срослось с его природой. Отвергайте авторитеты, не стремитесь к никаким идеалам, не имейте никакой религии (кроме тетрадок Фейербаха и Бюхнера), не стесняйтесь никакими нравственными обязательствами, смейтесь над браком, над симпатиями, над духовной чистотой, а не то вы “подлец”!»
Опрометчивость либералов объяснялась, по мысли Лескова, незнанием и непониманием народа. И значит, им не следовало, с одной стороны, так самоуверенно учить и переделывать этот народ, с другой – противореча себе, его же «ставить на ходули». Несмотря на безусловные достоинства и красоту народной поэзии, стать учителем образованных сословий мужик всё-таки не может:
«Разве народная доблесть нуждается в лести, в криках, что у нас всё хорошо? Я никак не думаю, что, отстаивая родную народность, следует видеть особую прелесть и в грязных ногтях, и в чуйке, и в сивушном запахе, а тем паче в стремлении к кривосудству…»
Позднее, в 1886 году, в статье «О куфельном мужике и проч.» Лесков, полемизируя с Достоевским, утверждал, что людей высшего круга «куфельный» (кухонный) мужик не может научить «ничему отвлеченному ни в политическом, ни в теологическом роде», однако «научает жить, памятуя смерть», и приходить послужить страждущему»
. Он готов был признать, что народный быт верно описан в некоторых рассказах Щедрина, Николая Успенского и письмах Якушкина, но считал, что все эти тексты тонут в «благонамеренной болтовне», которая лишает читателя доверия к любому литературному высказыванию о народе.
Первые рассказы
Его голос креп, позиция и взгляды делались более последовательными. Эта растущая уверенность в себе, убежденность, что уж он-то знает народ изнутри и сможет рассказать о нем не хуже прочих, очевидно, и привела к появлению первых небольших рассказов из народной жизни: «Погасшее дело»[35 - Под этим названием рассказ был напечатан в журнале «Век» (1862. № 12. 25 марта); в издании 1869 года Лесков переименовал его в «Засуху», изменил имя священника, добавил и переделал отдельные эпизоды, написал другой финал (см.: Лесков Н. С. Полное собрание сочинений: Т. 1. С. 697–701).], «Разбойник» и «В тарантасе».
Два последних – дилогия со сквозными персонажами-путниками, едущими в тарантасе на Макарьевскую ярмарку и ведущими неспешную беседу. Оба текста погружают читателя в стихию бесконечного, но занимательного дорожного разговора: о лихих людях, что шалят на дороге и готовы срезать у путешественников «чумодан», о том, почему русские любят воровать, англичане торговать, а французы воевать, и правда ли, что в «Ерусалиме» расположен пуп земли. Подобно многим в тогдашней российской словесности, Лесков вслушивался в народную речь, но у него затейливые выражения собраны и выставлены на обозрение, словечко к словечку, как экспонаты в музейной витрине, в отличие от Левитова, у которого народный говор лился рекой.
«Правда-то нонче, брат, босиком ходит да брюхо под спиной носит»
.
«Аль одна дома? – спросил купец. – Одна! зачем одна? не одна, а с Богом»
Лесков впитывал всё, что читал и слышал, учился писать на общественные темы, думать, спорить; что-то в участниках кружка его смешило, что-то нравилось. Нравился и он – умный, яркий, даровитый, тогда казалось – «обучаемый». Он стал своим человеком у графини Салиас; домашнее, частное уже и не отделялось от редакционного, профессионального. Прошло спокойное, уютное лето, полное свободы и шумных, но мирных бесед. В Петербург Лесков пока не собирался – обжился, прижился на Большой Садовой.
И тут грянуло, загрохотало.
В Москву явилась Ольга Васильевна с Верой. За свободные от жены и дочки полгода Лесков словно бы подзабыл, что они живут где-то в далеком Киеве.
В надежде соединиться или поставить все точки над «i» и расстаться окончательно приехала Ольга Васильевна? Возможно, она и сама ясно этого не понимала. Наверное, устала быть «соломенной вдовой». В «Некуда» Лесков так описывает внезапный приезд жены героя, Дмитрия Петровича Розанова:
«Нынешний раз процесс этот совершился даже гораздо быстрее: Ольга Александровна обругала мужа к вечеру же на второй день приезда и объявила, что она возвратилась к нему только для того, чтобы как должно устроиться и потом расстаться. <…> Ребенок, по мнению доктора, был дурно содержан в течение лета. Девочка вернулась, нимало не поправившись, такая же изнеженная, слабая, вдобавок с некоторыми, весьма нехорошими, по мнению Розанова, наклонностями. С первого же указания на это Ольга Александровна поставила себя в отношении к мужу на военное положение. Ее всегдашняя бесцеремонность в обращении с мужем не только нимало не смягчилась от долговременного общения с углекислыми феями, но, напротив, стала еще резче. К тому же Ольга Александровна вообразила себе, что она в кого-то платонически влюблена и им платонически любима. При столь благоприятных шансах Ольга Александровна хотела быть нарочито решительною: – развод, и кончено. Прошла неделя, другая – содом не унимался. Розанов стал серьезно в тупик. Скандал скандалом, но и ребенка жаль, да куда же деться? а жить порознь в Москве, в виду этого самого кружка, он ни за что бы не согласился»
.
Немало зачерпнуто здесь из его собственной жизни: дочка, недовольство отца ее содержанием, скандалы с женой. В романе «Некуда» Розанов перед женой невиновен. А сам Лесков?
«Жили мы тогда, – вспоминал А. С. Суворин, – на Б[олыпой] Садовой, против Ермолая, во флигеле, который отдала нам графиня Салиас после того, как Н. С. Лесков, занимавший этот флигель, уехал в Петербург, после скандальных историй со своей женой… Она приходила к графине и Новосильцевым[30 - Сёстры Новосильцевы – Екатерина Владимировна (1820–1885), писательница, историк, и Софья Владимировна, в замужестве Энгельгардт (1828–1894), писательница, сотрудница газеты «Русская речь».] и жаловалась.
Раз она убежала от него, и он подал заявление в полицию»
.
Писатель И. И. Ясинский в романе «Лицемеры» (1893) выводит во многом списанного с Лескова купца Хаврушина, который рассказывает, как жил с женой: «Скопил я десять тысяч и стал задумываться, как от нее отделаться… Принялся я ее щипать, схвачу и поверну круто, прекруто; сделал одну браслетку, другую; стал надевать браслетку на браслетку, и так до плеч довел. Мозг у меня горит… Обвел ожерелье вокруг шеи – синее твоего са[п]фира, Эм[м]ануил Давидович; побежала у меня пена изо рта»
. Только в романе Ясинского заявление в полицию подает сама купчиха. Ясинский, бывший на 20 лет моложе Лескова, писал свою карикатуру, опираясь на слухи. Но слухи эти были до того устойчивы, что докатились до начала 1890-х.
Суворин 29 ноября 1861 года писал Михаилу Де-Пуле: «Лесков уехал – оказался негодяем страшным, и мы его выжили»
.
Этого «мы» Лесков так и не простил до конца участникам московских событий. Только с Сувориным он потом примирился, с остальными от всей души расквитался в «отмщевательном» романе «Некуда», дав уничтожающие характеристики и сестрам Новосильцевым, и Феоктистову, и бледному, вечно просящему взаймы Левитову, но с особенной безжалостностью разделался с графиней Салиас. Непоследовательная, легко увлекающаяся, но совершенно безвредная, безопасная, добрая «Сальясиха» помогла Лескову расширить круг литературных знакомств, углубить журналистский опыт, обеспечила достойным заработком и в итоге литературным именем – обо всём этом было забыто. Зато в «Некуда» появилась комичная и жалкая «углекислая фея» маркиза де Бараль, списанная с графини:
«Маркизе было под пятьдесят лет. Теперь о ее красоте, конечно, уже никто и не говорил; а смолоду, рассказывали, она была очень неавантажна. Маленькая, вертлявая и сухая, с необыкновенно подвижным лицом, она была весьма непрезентабельна. Рассуждала она решительно обо всём, о чем вы хотите, но более всего любила говорить о том, какое значение могут иметь просвещенное содействие или просвещенная оппозиция просвещенных людей, “стоящих на челе общественной лестницы”. Маркиза не могла рассуждать спокойно и последовательно; она не могла, так сказать, рассуждать рассудительно. Она, как говорят поляки, “miala zaj дса w glowie[32 - Имела зайца в голове (польск.).] ”, и этот заяц до такой степени беспутно шнырял под ее черепом, что догнать его не было никакой возможности. Даже никогда нельзя было видеть ни его задних лапок, ни его куцого, поджатого хвостика. Беспокойное шнырянье этого торопливого зверка чувствовалось только потому, что из-под его ножек вылетали “чела общественной лестницы” и прочие умные слова, спутанные в самые беспутные фразы»
.
Маркиза в «Некуда» нелепа, неумна и окружена как льстивыми, так и беспардонными «друзьями». В ее доме живут канарейка и попугай. Попугай, между прочим, существовал в действительности и чуть не клюнул в начищенный сапог начинающего литератора Суворина, явившегося представиться графине.
За что же Лесков отомстил Елизавете Васильевне всего три года спустя после самого тесного сотрудничества?
За всё вместе. За беспутную, как казалось ему потом, литературную молодость; за старт в издании средней руки; за приятельство с людьми, которые вскоре станут его врагами. Но главное – за то, что графиня участвовала в его личной драме, пыталась примирить его с женой и явно жалела Ольгу Васильевну, приняв, как и весь московский кружок, ее сторону. И за то, что в ее глазах он «прослыл зверем»
. Позднее Лесков готов был признать, что с маркизой де Бараль всё-таки погорячился, и, кажется, даже передал Евгении Тур изысканный литературный привет. «Жемчужное ожерелье» называлась одна из поздних ее сказок, а потом и сборник
. «Жемчужное ожерелье» назвал один из лучших своих святочных рассказов 1885 года Лесков, ласково и весело окликнув в нем «матримониальную» тему, сквозную в прозе Елизаветы Васильевны, а возможно, и ее саму.
«Северная пчела» и третий путь
С кружком Евгении Тур Лесков порвал вскоре после приезда супруги с дочкой – осенью 1861 года. До конца ноября он еще вел в журнале внутреннее обозрение, пока его не сменил Суворин. Из Москвы Лесков переехал в Петербург, теперь уже навсегда. С 1 января 1862 года он начал сотрудничать с газетой «Северная пчела». Это было во всех отношениях лучше: работа в крупной столичной газете позволила заострить публицистическое перо и шагнуть на следующий уровень журналистского мастерства.
В 1860 году «Северную пчелу» возглавил давний ее сотрудник и редакционный секретарь Павел Степанович Усов. Времена Булгарина и Греча, когда-то создавших эту газету и определявших ее политику на протяжении тридцати с лишним лет, ушли в прошлое. Жало ее давно затупилось, в материалах царила, по выражению Белинского, «золотая посредственность». Да и немодно стало сражаться с вольнодумцами и конституцией; теперь любое издание, желавшее быть на слуху, просто обязано было числить себя либеральным. И Усов делал всё, чтобы сложившаяся при Грече и Булгарине репутация «Северной пчелы» как газеты продажной, проправительственной и неприличной поскорее разрушилась.
У него были свои мании. Одна из них – англофильство.
Воспитанник частного английского пансиона Гирста, выпускник физико-математического факультета Петербургского университета, Усов с юности читал и любил английские газеты. Однажды он даже опубликовал в знаменитом британском журнале «Экономист» статью о торговле салом в России
. И теперь очень надеялся нацепить на «Северную пчелу» цилиндр истинного английского джентльмена, а именно – открывать каждый номер leading article — передовой статьей с обозрением внешней политики. Его мечта исполнилась даже до того, как он возглавил газету: именно «Северная пчела» образца 1857 года впервые в России опубликовала передовицу с обзором внешнеполитической ситуации. Этого не случилось бы без резолюции цензора Министерства иностранных дел, которым был тогда поэт Федор Иванович Тютчев, – именно он «безо всякого затруднения» дал передовицам «права гражданства»
.
Став в 1860 году у кормила «Северной пчелы» и одновременно сделавшись ее половинным владельцем (Булгарин продал ему свою часть, вторая половина принадлежала Гречу), Павел Степанович надеялся открыть газетные площади для свободного обсуждения острых общественных проблем, превратить свое издание в российский аналог лучших европейских – иначе говоря, создать авторитетную, респектабельную, космополитичную газету. Он пригласил авторов совсем иного, чем у Греча с Булгариным, направления: социалистов Василия Слепцова и Артура Бенни, литературных пролетариев Александра Левитова и Федора Решетникова, собирателя народной поэзии Павла Якушкина, Марко Вовчка и Владимира Даля. Одновременно с газетой сотрудничал П. И. Мельников (Андрей Печерский), публиковавший в ней очерки о расколе и, между прочим, не скрывавший своих вполне консервативных взглядов, а также Евгения Тур («Северная пчела» разместила, например, ее знаменитую рецензию на тургеневских «Отцов и детей», предложившую новую формулу замысла нашумевшего романа: «ни отцы, ни дети»). Лесков относил себя к лагерю «постепеновцев», оппонентов «нетерпеливцев»[33 - Эти определения появились у Лескова в цикле очерков «Из одного дорожного дневника» и потом использовались им неоднократно: в романе «Некуда», очерке «Русское общество в Париже» (1863, 1867) и «Товарищеских воспоминаниях о П. И. Якушкине» (1884).]. В той же умеренной партии желал числить себя и новый издатель «Северной пчелы», стараясь двигаться точно посередине между консерваторами и радикалами. Передовицы Лескова, занимавшие верхние столбцы газеты, это направление довольно последовательно центровали.
Лесков отстаивал право на независимость суждений, уже привычно упрекая либералов в том, что они «тирански кладут каждую личную свободу на прокрустово ложе», а журнал «Современник» – в «деспотствующем либерализме»
. Но пока не отбушевала общая радость по поводу повеявшей в воздухе весны, состоявшихся и грядущих реформ, это не означало окончательного разрыва с «нетерпеливцами», «постепеновцы» всё еще были с ними во многом заодно. Но весна уже плавилась и таяла, близилось лето, воздух дышал жаром, вот-вот должны были вспыхнуть знаменитые пожары, спалившие последние иллюзии.
Однако пока Лесков стоял за «непонятный правильный прогресс», как выразилась одна героиня «Некуда» про доктора Розанова. Это значило: за просвещение крестьян, хотя бы и с помощью самой доступной народу книги – Библии, за борьбу с их невежеством в ведении хозяйства; за изучение как собственной, так и мировой истории[34 - Передовицы Лескова, опубликованные в «Северной пчеле» в 1862–1863 годах, убедительно атрибутированы (см.: Видуэцкая И. П. Передовые статьи по вопросам внутренней жизни России в «Северной пчеле» (1862–1863) // Лесков Н. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 787–858).]:
«…забывчивость, одна из наших слабостей… Что до нас, то мы… особенно скорбим о недостатке в нашем обществе знакомства с историею человечества. История учит многому…»
Не раз говорил он и о преодолении изоляционизма, отказе от веры в уникальность русского пути, на которой настаивали славянофилы и газета «День», взявшая на себя роль «опекуна младенствующей и развращаемой западною цивилизацию Руси», который «с нежною любовью старого дядьки пестует своего тысячелетнего младенца»
. Лесков не сомневался, что на «гнилом Западе», как язвительно цитировал он оппонентов, люди «подняты цивилизациею на другую ступень гражданственности»
и что Россия уже движется похожим путем, но пока сильно отстает в развитии, а потому вполне может поучиться у просвещенных соседей.
Вот только двигаться к преображению нужно постепенно, не выжигая старинных привычек огнем и мечом. Мгновенно изменить то, что складывалось столетиями, невозможно, да и не всегда нужно. Вскачь не напашешься; воробьи торопились да маленькими уродились.
«“Если ты не с нами, так ты подлец’". Держась такого принципа, наши либералы предписывают русскому обществу разом отречься от всего, во что оно верило и что срослось с его природой. Отвергайте авторитеты, не стремитесь к никаким идеалам, не имейте никакой религии (кроме тетрадок Фейербаха и Бюхнера), не стесняйтесь никакими нравственными обязательствами, смейтесь над браком, над симпатиями, над духовной чистотой, а не то вы “подлец”!»
Опрометчивость либералов объяснялась, по мысли Лескова, незнанием и непониманием народа. И значит, им не следовало, с одной стороны, так самоуверенно учить и переделывать этот народ, с другой – противореча себе, его же «ставить на ходули». Несмотря на безусловные достоинства и красоту народной поэзии, стать учителем образованных сословий мужик всё-таки не может:
«Разве народная доблесть нуждается в лести, в криках, что у нас всё хорошо? Я никак не думаю, что, отстаивая родную народность, следует видеть особую прелесть и в грязных ногтях, и в чуйке, и в сивушном запахе, а тем паче в стремлении к кривосудству…»
Позднее, в 1886 году, в статье «О куфельном мужике и проч.» Лесков, полемизируя с Достоевским, утверждал, что людей высшего круга «куфельный» (кухонный) мужик не может научить «ничему отвлеченному ни в политическом, ни в теологическом роде», однако «научает жить, памятуя смерть», и приходить послужить страждущему»
. Он готов был признать, что народный быт верно описан в некоторых рассказах Щедрина, Николая Успенского и письмах Якушкина, но считал, что все эти тексты тонут в «благонамеренной болтовне», которая лишает читателя доверия к любому литературному высказыванию о народе.
Первые рассказы
Его голос креп, позиция и взгляды делались более последовательными. Эта растущая уверенность в себе, убежденность, что уж он-то знает народ изнутри и сможет рассказать о нем не хуже прочих, очевидно, и привела к появлению первых небольших рассказов из народной жизни: «Погасшее дело»[35 - Под этим названием рассказ был напечатан в журнале «Век» (1862. № 12. 25 марта); в издании 1869 года Лесков переименовал его в «Засуху», изменил имя священника, добавил и переделал отдельные эпизоды, написал другой финал (см.: Лесков Н. С. Полное собрание сочинений: Т. 1. С. 697–701).], «Разбойник» и «В тарантасе».
Два последних – дилогия со сквозными персонажами-путниками, едущими в тарантасе на Макарьевскую ярмарку и ведущими неспешную беседу. Оба текста погружают читателя в стихию бесконечного, но занимательного дорожного разговора: о лихих людях, что шалят на дороге и готовы срезать у путешественников «чумодан», о том, почему русские любят воровать, англичане торговать, а французы воевать, и правда ли, что в «Ерусалиме» расположен пуп земли. Подобно многим в тогдашней российской словесности, Лесков вслушивался в народную речь, но у него затейливые выражения собраны и выставлены на обозрение, словечко к словечку, как экспонаты в музейной витрине, в отличие от Левитова, у которого народный говор лился рекой.
«Правда-то нонче, брат, босиком ходит да брюхо под спиной носит»
.
«Аль одна дома? – спросил купец. – Одна! зачем одна? не одна, а с Богом»