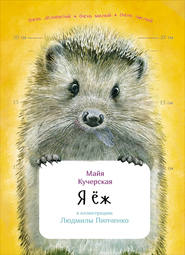По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лесков: Прозёванный гений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
.
«Телеман-сорт» (вероятно, искаженная французская фраза tel est mon sort – такова моя судьба) – еще одна отсылка к французской просветительской культуре, на этот раз изобразительной, поскольку «корабль, погибающий в волнах» – это отнюдь не перевод вспомнившейся герою фразы, а, скорее всего, память о виденном им аллегорическом изображении тонущего корабля[41 - Благодарю за подсказку Марию Сергеевну Неклюдову.]. Отец Илиодор ощущает себя таким кораблем. Но смысл, скрывающийся за этим образом, еще безнадежнее: такова судьба не только героя Лескова, но и любого сельского священника в России. Бедность, бесправие, темные мужики, которые никогда не двинутся дальше «королевского еруслания», как в рассказе назвал своего барина растерявшийся старик-крестьянин. Эта контаминация (вполне в духе будущего «Аболона Полведерского» из «Левши») «Бовы Королевича» и «Еруслана Лазаревича», героев двух самых популярных в России лубочных романов, – еще одно указание на предел народных знаний, почерпнутых преимущественно из тогдашних комиксов.
Неграмотный мужик затыкает пробкой рот своему пастырю, чтобы тот «вслух отходной себе не читал», и дальше, шире – потому что не желает слушать его проповеди. В этой жутковатой сюрреалистической сцене, возможно, скрывается понятный только близкому кругу намек автора на печальный конец реального священника Алексея Львова, под конец жизни потерявшего рассудок
.
Дебютный рассказ Лескова, переписанный семь лет спустя, стал демонстрацией, с одной стороны, спектра его писательских возможностей, включающих психологизацию образов, мастерское изображение типажей, языковые ребусы, печальную иронию, с другой – набора любимых тем и вопросов, от судеб духовенства и необходимости просвещения крестьян до крепостничества в России.
Лесков и разночинцы
Тринадцатого мая князь Владимир Федорович Одоевский записал в дневнике: «У меня Лесков – толковали о глупых прокламациях и о нелепости нашего социализма. “Уж если будет резня, – сказал Лесков, – то надобно резаться за Александра Николаевича” (императора Александра II. – М. К.). “Северная Пчела” начинает поход на социалистов»
. Князь был близок к «Северной пчеле», и, по-видимому, Лесков оказался у него именно как сотрудник этой газеты. Одоевский преувеличивал, подлинного похода на социалистов редакция так и не предприняла. Замечателен, однако, сам факт их встречи: Одоевский, представитель ушедшей литературной эпохи, имел совсем иной круг общения – был близок ко двору, в 1861 году стал сенатором – и давно отошел от занятий изящной словесностью, но молодым литературным поколением живо интересовался.
Они говорили на самую злободневную тему – по Петербургу разбрасывали прокламации с призывами к революции, в воздухе висело ощущение близкой катастрофы. Но пока до нее осталось еще две недели, попробуем разобраться, как Лесков ухитрился не пропасть, не сгинуть в пьяном чаду, в болезнях, в нищете вместе с теми, чьи имена уже столько раз появлялись на страницах этой книги, – с шестидесятниками XIX века.
Никто поначалу не осознал, что в литературу пришел не еще один Николай Успенский, Левитов, Якушкин, Решетников или Помяловский, а писатель, чем-то очень похожий на них и всё же совершенно иной по интересам и устремлениям. Вычти из раннего Лескова любого из перечисленных авторов – пропадут сказовая манера, интерес к народной речи, останется отец Илиодор со своими странными снами и нежным сердцем, сохранятся ажурное кружево литературной игры с источниками, вполне модернистской по духу, и языковые загадки.
Приход в литературу писателей-шестидесятников напоминал реку, вскрывшуюся после долгой чистенькой зимы.
Пошел черными трещинами лед мистической и светской романтической повести, лопнули искрившиеся кристаллические решетки эпистолярных романов. Все эти постылые марлинские с их псевдоразбойниками, говорившими с вальтер-скоттовским акцентом, – ни за что не потерпели бы их суровые русские леса; все эти Лермонтовы, переносимые лишь в пародийных переделках (И скучно и грустно, ? И некого в карты надуть ? В минуту карманной невзгоды…»); все эти искусственные страсти, тщательно выстроенные симметричные сюжетные схемы, заимствованные из европейских романов; все эти изящные треугольники и четырехугольники любящих сердец – разнесены были в осколки, в пыль. От прежнего блестящего паркета остались чумазые щепки, которые плыли рядом с полуштофом, экскрементами, в треске, в шуме. Бурный напор отдавал черной злобой, прежде литературе неведомой; на дне реки темно, холодно лежало отчаяние. Талая вода затопила и идиллические избушки селян, и раскрашенные псевдоисторические декорации из романов Загоскина.
Придумывать они не умели, а когда придумывали, всё равно опирались на то, что видели и знали.
Но что они видели, что знали? Одну бесконечную русскую беду, горе-злочастие, злую кручину, которую не размыкать никак, никогда. Их очерки часто не имели последовательных сюжетов – какой у горя сюжет? Их судьбы были похожи так, будто шились по одним лекалам.
Николай Успенский – сын сельского священника, окончив семинарию и так и недоучившись в Петербургской медико-хирургической академии, пережил краткий миг славы в некрасовском «Современнике», публиковавшем его натуралистические очерки, безжалостные к дикости и убожеству крестьян, а закончил тем, что ходил по улицам Петербурга гаером с двухлетней дочкой. Пел под гармонику частушки, изображал сцены в компании с чучелом крокодила, чтобы не умереть с голода; в конце концов он совсем спился и зарезался прямо на улице. Федор Решетников – сын екатеринбургского почтаря, не имел даже семинарского образования, но опубликовал всё в том же «Современнике» повесть «Подлиповцы» об абсурдном русском крестьянском мире, тоже много пил и умер от отека легких, не дожив до тридцати. Помяловский, тяжелый алкоголик, скончался и того раньше – в 28 лет, каким-то чудом успев написать несколько очерков и повестей, в том числе легендарные «Очерки бурсы». Продолжать ли? Уже не раз упомянутый нами Александр Левитов по сравнению с ними долгожитель – протянул 41 год, последние пять лет полунищим, ютясь по чердакам и трущобам, и тоже запивал свое горе отнюдь не ключевой водой. Они сочиняли с голодухи.
«У нашего поколения, – напишет Глеб Иванович Успенский в 1888 году, – не было портфелей, но наброски были, только лежать в письменном столе они не могли, а тотчас же по напечатании сохранялись на прилавке в овощной лавке. Обо всём этом времени будет написана целая глава литературных воспоминаний о нашей бесприютности, об отсутствии таких кружков, которые, как в 40-х годах, воспитывали наших писателей. Когда я появился в Петербурге в [18]61 г., то было два резких явления – начало движения молодежи и пьянство остатков и полуталантов людей 40-х годов, людей старого воспитания. Я жил между тем и другим. Аполлон Григорьев, Аверкиев, Курочкин, В. Якушкин, Левитов, Решетников, Помяловский, Кущевский, Демерт, С. В. Максимов (его спасло то, что он сделался редактором “Полиц[ейских] ведомостей]” и получал 5000 в год) и тьмы тем пьяных людей. Никуда нельзя было прийти, чтобы не натолкнуться на пьяные сцены. Я года два только и делал, что возил пьяниц в белой горячке в больницы, выправлял из квартала, звонил дворнику – “не ваш ли?” Хороших руководящих личностей не было. [В 18]61 г. в ноябре я видел Добролюбова в 1-й раз, в гробу, в [18]63 увезли Черн[ышевского] в Сиб[ирь]. Писарев до [18]67 был невидим, сидел в крепости. Некрасов написал стихи Муравьеву, Комиссарову. Салтыков был в Рязани начальником] контрольной] палаты. Мих[айловский] еще не показывался] на свет литературы. Я готов был наложить на себя руки, но, получив как-то случайно 300 р., уехал за границу и прожил с женой и ребенком там целых два года. Тут я пришел в себя и, несмотря на крайнюю бедность и нищету, стал писать уже по возможности сознательно. Наша хорошая молодежь, среди кот[орой] я был, окончательно прервала мои связи с пьяным миром»
.
Разночинный разгул был недоброй версией дружеского пира поэтов пушкинской эпохи. Но утраченная истина, которой питались отцы и деды, не открывалась в вине.
Лескова тоже коснулось это неистовство. Уже в пожилом возрасте, говоря о поэте Фофанове, еще одном известном любителе напитков, волнующих кровь, он сделал признание: «Это поэт с головы до ног, непосредственный, без выдумок и деланности. Он творит даже против воли. Но и пьет, может быть, против воли. Страшно пьет, как теперь в редкость, но как пивали мы когда-то»
.
Как Лесков не утонул в этом омуте?
Во-первых, был он рядом с ними, но всё-таки не разночинец – дворянин, хотя и «колокольный», и со своей средой так резко, как они, не порвал, принимал от семьи помощь. Сначала ему, письмоводителю, пусть и иронично щурясь, подал руку дядюшка-профессор, выволок из пыльного, «прогорелого» Орла, это его связи помогли племяннику не только начать служить в Казенной палате, но и сделать первые шаги в журналистике. Потом другой «дядюшка», англичанин Шкотт, позвал Лескова в контрагенты и подарил драгоценный жизненный материал.
Второй причиной был талант – вероятно, большего масштаба, чем у многих его современников-разночинцев, до дна исчерпавших свои личные впечатления и иссякших. Лесков обладал счастливой способностью описывать не только личный опыт, но и мир вокруг; каждый встреченный попутчик был ему интересен, каждый услышанный анекдот увлекал. К тому же он был художник, рисовал редкими, подслушанными словами, а не хватало подслушанных – вымышленными, складывал фантастические языковые миры, создавал параллельную реальность, в буйных узорах, в лабиринтах которой всегда мог затеряться, схорониться. Так и получилось: разночинные соблазны коснулись и покружили Лескова, но не затянули, не погубили. Его поджидали иные бездны.
Горим!
Духов день, 28 мая 1862 года, выдался солнечным, теплым. Ветерок прихватывал, но казался нестрашным, летним. Холода откатили, ледяные дожди схлынули. Облетела черемуха, сирень еще доцветала.
По широким аллеям Летнего сада текла праздничная толпа. Сквозь гомон голосов, смех, вскрики булькала музыка – в разных концах парка играли духовые оркестры. Мраморные нимфы и музы рассеянно глядели, как, точно в танце, степенно приподнимаются над аккуратными лысинами черные циммерманы[42 - Циммерман – мужская высокая круглая шляпа, называемая так по фамилии известного владельца фабрики и магазина головных уборов.], плавно качаются зонтики-парасольки и женские шляпки, как ветер колышет голубые и розовые ленты, завязанные под нежными подбородками. Вспыхивают околыши фуражек приказчиков и чиновного люда, пестреют головные платки. Нет-нет да и вынырнут из цветной реки суровые бороды староверов – не удержались и тоже пришли на гулянье, тешить беса. Дамы бросают друг на друга зоркие взгляды, высматривают, что нынче носят; сынки, незаметно отстав от родителей, огрубевшими голосами сговариваются, как сподручнее бежать от старших да и махнуть на Минерашки[43 - Так петербуржцы называли лечебницу с минеральными водами в Новой деревне, в которой с 1834 года действовал и сад с буфетом и музыкой (на одном из местных балов побывал и А. С. Пушкин с женой), а с конца 1850-х – открытый театр с живыми картинами и акробатами (см.: Стеклова И. А. Феномен увеселительных садов в культуре Петербурга – Петрограда // Архитектура и культура: Сборник научных трудов. М., 1991. С. 165–177; Конечный А. М. Петербургские общедоступные увеселительные сады в XIX веке // Europa Orientalis. 1996. Vol. 15. № 1. Р. 37–50).]. Шныряют лавочные мальчишки – и у них выходной. Цветочные ароматы перебивает тяжелый запах пачулей, дегтя, деревянного масла.
Праздно, приподнято, возбужденно – наконец-то тепло и после вчерашней Троицы выпал еще один праздник. А тревожные слухи, что на Троицу непременно подожгут Апрашку, не подтвердились – пустая трескотня.
Но в начале шестого часа кто-то крикнул высоким тенором: «Пожар!»
Через мгновение снова, уже густо, басовито: «Апраксин горит!» Апраксинцы заозирались. «Апраксин двор! Толкучий! Горим!» – неслось уже отовсюду.
Утратив и величие, и степенность, мужчины бросились к выходу – спасать товар. Началась давка; карманники не терялись – подхватывали бумажники, рвали цепочки, драли серьги из ушей. С кого-то тащили бурнус, с барышень – шали с брошками, с мужчин сдергивали жилетные часы. Музыканты еще играли, но уже вразнобой, потерянно, пока их совершенно не заглушили брань, вопли, рыдания, женский визг.
Те, кто вырвался, наконец, на Невский, всё еще надеясь, не веря, застывали: из середины Апрашки тянулся густой черный столб дыма, затмевая солнце и небо. Воняло гарью, рынок смердел. На Каменном мосту уже толпились загруженные вещами возы – когда успели? Мелькали помертвевшие от ужаса лица.
На самом рынке царил хаос. Все улицы и переулки, что вели на Садовую, были запружены снующими людьми, каретами, телегами с мебелью. Ножки стульев торчали вверх, громоздились тюки с товаром, оплавленные зеркала печально глядели в медленно смурневшее небо. Полицейские метались, расталкивая народ. Дорогу! Какое там… Лошади ржали, пожарные с бочками воды не могли пробиться – цеплялись за мебель, вставали, чтобы не подавить людей. Глухие удары, звон, скрежет – на улицу летели шубы, сапоги, картонки, отрезы сукна, подушки, исподнее. Ловкий худенький паренек лез по водосточной трубе; два плотных бородача, явно отец и сын, выламывали двери лавки; дюжий молодец в праздничной красной рубахе зачем-то сбивал вывеску. Кто-то пытался помочь, кто-то норовил украсть, кто-то, потеряв рассудок, пробивался сквозь толпу, бормоча несвязное.
Вдруг крикнули злобно: «Вот же, вот поджигатель! Лови!» Толпа рванула за молодым человеком с большим мешком, из которого тянулась струйка темного порошка. Остановили быстро. Окружили кольцом. Парень в низко надвинутом картузе, бледный как полотно, не убегал, что-то пытался сказать, да кто его слушал! Сбили картуз: рыжий! Рыжий и есть! Толканули, мешок порвался, содержимое посыпалось прямо в тлевшую под ногами ветошь, и ползший огненный язычок сейчас же угас. Не порох – песок он тащил, тушить! Эх… Беги-ка проворней! Разошлись разочарованно сразу, без лишних слов. И в тот же миг сгинул рыжий с мешком.
Пылал и соседний Щукинский рынок.
В птичьем ряду метались куры, горько пахло паленым пером. Клетки заперты, хозяев не видать. Клокотали индюшки, голосили петухи и гоготали гуси, на глазах превращались в обугленные тушки.
На Садовой шло другое веселье. Народ, окружив разорванные кули со сладостями, ссыпал в карманы орехи и пастилу, черпал чай горстями. Взять съестное – не грех, всё одно пойдет прахом! Молодые ребята из приказных уже набрели (знали?) на запас водки и шагали красные, бешеные. Кто поджег? Там и здесь вспыхивал злой шепоток: опять поляки!., студент балует! Только попадись!
На Фонтанке торговцы сбрасывали товар на подходившие к берегу барки, лодки. Над чугунной решеткой гранитной набережной летели ружья и картины, миски и горшки.
Вспыхнул дровяной склад в Апраксином переулке, загорелись окружавшие рынок дома. Жители, обезумев, выталкивали из окон перины, выбегали в шубах и теплых пальто, с иконами и шкатулками под мышкой.
Ветер делался всё сильнее и гнал пламя дальше, на Министерство внутренних дел. Вот уже огонь лизнул его крышу, еще миг – охватил и здание; белые бумаги полетели по набережной, а пламя перекинулось через Чернышев мост.
Розовое зарево дрожало над черными обгорелыми трубами. Сиреневело небо. Толпа погорельцев, гудя, валила к мосту. Вдруг крики, проклятия, вой стихли, подернулись восхищенным рыдающим выдохом: «Ур-ра!»
К Чернышеву мосту скакал верхом император.
Осунувшийся, белый, скорбно глядел он на свой народ, на алое сияние, осветившее ночь.
«Ура!» не смолкало. Народ тянул к нему руки, бабы падали на колени, голосили, плакали: кормилец, спаси! Сгорело всё, до последней ниточки. Глаза государя налились слезами.
Довольно. Я бросаю перо.
«Пожарная» статья
Пламя полыхало всю ночь. Наутро солнце озарило то, что осталось после пожара: «…там, где кипела деятельность, где стояли сотни лавок, набитые товаром, где тысячи торговцев зарабатывали себе хлеб, было гладкое поле; только кой-где на земле тлелись уголья, да стояли почернелые остовы каменных строений и придавали еще более ужаса этой страшной картине разрушения»
. На месте скученного торгового города тянулся едкий дым.
«В несчастный день 28 мая… сгорел Апраксин двор, Толкучий рынок, Щукин двор, много капитальных домов частных владельцев, дом Министерства внутренних дел, Чернышев и Апраксин переулки и многие дома и деревянные дворы по левой стороне Фонтанки, Троицкий переулок от Пяти углов до Щербакова переулка, Щербаков переулок, барки и рыбные садки по Фонтанке»
, – писал Лесков 30 мая 1862 года в печально знаменитой статье «Настоящие бедствия столицы», опубликованной в «Северной пчеле», не подозревая, как скоро это пламя поглотит и его самого.
«Да когда же в России что-нибудь не горело? Из этого петербургского удивления перед пожарами и поджогами только видно, что Петербург в самом деле иностранный город»
«Телеман-сорт» (вероятно, искаженная французская фраза tel est mon sort – такова моя судьба) – еще одна отсылка к французской просветительской культуре, на этот раз изобразительной, поскольку «корабль, погибающий в волнах» – это отнюдь не перевод вспомнившейся герою фразы, а, скорее всего, память о виденном им аллегорическом изображении тонущего корабля[41 - Благодарю за подсказку Марию Сергеевну Неклюдову.]. Отец Илиодор ощущает себя таким кораблем. Но смысл, скрывающийся за этим образом, еще безнадежнее: такова судьба не только героя Лескова, но и любого сельского священника в России. Бедность, бесправие, темные мужики, которые никогда не двинутся дальше «королевского еруслания», как в рассказе назвал своего барина растерявшийся старик-крестьянин. Эта контаминация (вполне в духе будущего «Аболона Полведерского» из «Левши») «Бовы Королевича» и «Еруслана Лазаревича», героев двух самых популярных в России лубочных романов, – еще одно указание на предел народных знаний, почерпнутых преимущественно из тогдашних комиксов.
Неграмотный мужик затыкает пробкой рот своему пастырю, чтобы тот «вслух отходной себе не читал», и дальше, шире – потому что не желает слушать его проповеди. В этой жутковатой сюрреалистической сцене, возможно, скрывается понятный только близкому кругу намек автора на печальный конец реального священника Алексея Львова, под конец жизни потерявшего рассудок
.
Дебютный рассказ Лескова, переписанный семь лет спустя, стал демонстрацией, с одной стороны, спектра его писательских возможностей, включающих психологизацию образов, мастерское изображение типажей, языковые ребусы, печальную иронию, с другой – набора любимых тем и вопросов, от судеб духовенства и необходимости просвещения крестьян до крепостничества в России.
Лесков и разночинцы
Тринадцатого мая князь Владимир Федорович Одоевский записал в дневнике: «У меня Лесков – толковали о глупых прокламациях и о нелепости нашего социализма. “Уж если будет резня, – сказал Лесков, – то надобно резаться за Александра Николаевича” (императора Александра II. – М. К.). “Северная Пчела” начинает поход на социалистов»
. Князь был близок к «Северной пчеле», и, по-видимому, Лесков оказался у него именно как сотрудник этой газеты. Одоевский преувеличивал, подлинного похода на социалистов редакция так и не предприняла. Замечателен, однако, сам факт их встречи: Одоевский, представитель ушедшей литературной эпохи, имел совсем иной круг общения – был близок ко двору, в 1861 году стал сенатором – и давно отошел от занятий изящной словесностью, но молодым литературным поколением живо интересовался.
Они говорили на самую злободневную тему – по Петербургу разбрасывали прокламации с призывами к революции, в воздухе висело ощущение близкой катастрофы. Но пока до нее осталось еще две недели, попробуем разобраться, как Лесков ухитрился не пропасть, не сгинуть в пьяном чаду, в болезнях, в нищете вместе с теми, чьи имена уже столько раз появлялись на страницах этой книги, – с шестидесятниками XIX века.
Никто поначалу не осознал, что в литературу пришел не еще один Николай Успенский, Левитов, Якушкин, Решетников или Помяловский, а писатель, чем-то очень похожий на них и всё же совершенно иной по интересам и устремлениям. Вычти из раннего Лескова любого из перечисленных авторов – пропадут сказовая манера, интерес к народной речи, останется отец Илиодор со своими странными снами и нежным сердцем, сохранятся ажурное кружево литературной игры с источниками, вполне модернистской по духу, и языковые загадки.
Приход в литературу писателей-шестидесятников напоминал реку, вскрывшуюся после долгой чистенькой зимы.
Пошел черными трещинами лед мистической и светской романтической повести, лопнули искрившиеся кристаллические решетки эпистолярных романов. Все эти постылые марлинские с их псевдоразбойниками, говорившими с вальтер-скоттовским акцентом, – ни за что не потерпели бы их суровые русские леса; все эти Лермонтовы, переносимые лишь в пародийных переделках (И скучно и грустно, ? И некого в карты надуть ? В минуту карманной невзгоды…»); все эти искусственные страсти, тщательно выстроенные симметричные сюжетные схемы, заимствованные из европейских романов; все эти изящные треугольники и четырехугольники любящих сердец – разнесены были в осколки, в пыль. От прежнего блестящего паркета остались чумазые щепки, которые плыли рядом с полуштофом, экскрементами, в треске, в шуме. Бурный напор отдавал черной злобой, прежде литературе неведомой; на дне реки темно, холодно лежало отчаяние. Талая вода затопила и идиллические избушки селян, и раскрашенные псевдоисторические декорации из романов Загоскина.
Придумывать они не умели, а когда придумывали, всё равно опирались на то, что видели и знали.
Но что они видели, что знали? Одну бесконечную русскую беду, горе-злочастие, злую кручину, которую не размыкать никак, никогда. Их очерки часто не имели последовательных сюжетов – какой у горя сюжет? Их судьбы были похожи так, будто шились по одним лекалам.
Николай Успенский – сын сельского священника, окончив семинарию и так и недоучившись в Петербургской медико-хирургической академии, пережил краткий миг славы в некрасовском «Современнике», публиковавшем его натуралистические очерки, безжалостные к дикости и убожеству крестьян, а закончил тем, что ходил по улицам Петербурга гаером с двухлетней дочкой. Пел под гармонику частушки, изображал сцены в компании с чучелом крокодила, чтобы не умереть с голода; в конце концов он совсем спился и зарезался прямо на улице. Федор Решетников – сын екатеринбургского почтаря, не имел даже семинарского образования, но опубликовал всё в том же «Современнике» повесть «Подлиповцы» об абсурдном русском крестьянском мире, тоже много пил и умер от отека легких, не дожив до тридцати. Помяловский, тяжелый алкоголик, скончался и того раньше – в 28 лет, каким-то чудом успев написать несколько очерков и повестей, в том числе легендарные «Очерки бурсы». Продолжать ли? Уже не раз упомянутый нами Александр Левитов по сравнению с ними долгожитель – протянул 41 год, последние пять лет полунищим, ютясь по чердакам и трущобам, и тоже запивал свое горе отнюдь не ключевой водой. Они сочиняли с голодухи.
«У нашего поколения, – напишет Глеб Иванович Успенский в 1888 году, – не было портфелей, но наброски были, только лежать в письменном столе они не могли, а тотчас же по напечатании сохранялись на прилавке в овощной лавке. Обо всём этом времени будет написана целая глава литературных воспоминаний о нашей бесприютности, об отсутствии таких кружков, которые, как в 40-х годах, воспитывали наших писателей. Когда я появился в Петербурге в [18]61 г., то было два резких явления – начало движения молодежи и пьянство остатков и полуталантов людей 40-х годов, людей старого воспитания. Я жил между тем и другим. Аполлон Григорьев, Аверкиев, Курочкин, В. Якушкин, Левитов, Решетников, Помяловский, Кущевский, Демерт, С. В. Максимов (его спасло то, что он сделался редактором “Полиц[ейских] ведомостей]” и получал 5000 в год) и тьмы тем пьяных людей. Никуда нельзя было прийти, чтобы не натолкнуться на пьяные сцены. Я года два только и делал, что возил пьяниц в белой горячке в больницы, выправлял из квартала, звонил дворнику – “не ваш ли?” Хороших руководящих личностей не было. [В 18]61 г. в ноябре я видел Добролюбова в 1-й раз, в гробу, в [18]63 увезли Черн[ышевского] в Сиб[ирь]. Писарев до [18]67 был невидим, сидел в крепости. Некрасов написал стихи Муравьеву, Комиссарову. Салтыков был в Рязани начальником] контрольной] палаты. Мих[айловский] еще не показывался] на свет литературы. Я готов был наложить на себя руки, но, получив как-то случайно 300 р., уехал за границу и прожил с женой и ребенком там целых два года. Тут я пришел в себя и, несмотря на крайнюю бедность и нищету, стал писать уже по возможности сознательно. Наша хорошая молодежь, среди кот[орой] я был, окончательно прервала мои связи с пьяным миром»
.
Разночинный разгул был недоброй версией дружеского пира поэтов пушкинской эпохи. Но утраченная истина, которой питались отцы и деды, не открывалась в вине.
Лескова тоже коснулось это неистовство. Уже в пожилом возрасте, говоря о поэте Фофанове, еще одном известном любителе напитков, волнующих кровь, он сделал признание: «Это поэт с головы до ног, непосредственный, без выдумок и деланности. Он творит даже против воли. Но и пьет, может быть, против воли. Страшно пьет, как теперь в редкость, но как пивали мы когда-то»
.
Как Лесков не утонул в этом омуте?
Во-первых, был он рядом с ними, но всё-таки не разночинец – дворянин, хотя и «колокольный», и со своей средой так резко, как они, не порвал, принимал от семьи помощь. Сначала ему, письмоводителю, пусть и иронично щурясь, подал руку дядюшка-профессор, выволок из пыльного, «прогорелого» Орла, это его связи помогли племяннику не только начать служить в Казенной палате, но и сделать первые шаги в журналистике. Потом другой «дядюшка», англичанин Шкотт, позвал Лескова в контрагенты и подарил драгоценный жизненный материал.
Второй причиной был талант – вероятно, большего масштаба, чем у многих его современников-разночинцев, до дна исчерпавших свои личные впечатления и иссякших. Лесков обладал счастливой способностью описывать не только личный опыт, но и мир вокруг; каждый встреченный попутчик был ему интересен, каждый услышанный анекдот увлекал. К тому же он был художник, рисовал редкими, подслушанными словами, а не хватало подслушанных – вымышленными, складывал фантастические языковые миры, создавал параллельную реальность, в буйных узорах, в лабиринтах которой всегда мог затеряться, схорониться. Так и получилось: разночинные соблазны коснулись и покружили Лескова, но не затянули, не погубили. Его поджидали иные бездны.
Горим!
Духов день, 28 мая 1862 года, выдался солнечным, теплым. Ветерок прихватывал, но казался нестрашным, летним. Холода откатили, ледяные дожди схлынули. Облетела черемуха, сирень еще доцветала.
По широким аллеям Летнего сада текла праздничная толпа. Сквозь гомон голосов, смех, вскрики булькала музыка – в разных концах парка играли духовые оркестры. Мраморные нимфы и музы рассеянно глядели, как, точно в танце, степенно приподнимаются над аккуратными лысинами черные циммерманы[42 - Циммерман – мужская высокая круглая шляпа, называемая так по фамилии известного владельца фабрики и магазина головных уборов.], плавно качаются зонтики-парасольки и женские шляпки, как ветер колышет голубые и розовые ленты, завязанные под нежными подбородками. Вспыхивают околыши фуражек приказчиков и чиновного люда, пестреют головные платки. Нет-нет да и вынырнут из цветной реки суровые бороды староверов – не удержались и тоже пришли на гулянье, тешить беса. Дамы бросают друг на друга зоркие взгляды, высматривают, что нынче носят; сынки, незаметно отстав от родителей, огрубевшими голосами сговариваются, как сподручнее бежать от старших да и махнуть на Минерашки[43 - Так петербуржцы называли лечебницу с минеральными водами в Новой деревне, в которой с 1834 года действовал и сад с буфетом и музыкой (на одном из местных балов побывал и А. С. Пушкин с женой), а с конца 1850-х – открытый театр с живыми картинами и акробатами (см.: Стеклова И. А. Феномен увеселительных садов в культуре Петербурга – Петрограда // Архитектура и культура: Сборник научных трудов. М., 1991. С. 165–177; Конечный А. М. Петербургские общедоступные увеселительные сады в XIX веке // Europa Orientalis. 1996. Vol. 15. № 1. Р. 37–50).]. Шныряют лавочные мальчишки – и у них выходной. Цветочные ароматы перебивает тяжелый запах пачулей, дегтя, деревянного масла.
Праздно, приподнято, возбужденно – наконец-то тепло и после вчерашней Троицы выпал еще один праздник. А тревожные слухи, что на Троицу непременно подожгут Апрашку, не подтвердились – пустая трескотня.
Но в начале шестого часа кто-то крикнул высоким тенором: «Пожар!»
Через мгновение снова, уже густо, басовито: «Апраксин горит!» Апраксинцы заозирались. «Апраксин двор! Толкучий! Горим!» – неслось уже отовсюду.
Утратив и величие, и степенность, мужчины бросились к выходу – спасать товар. Началась давка; карманники не терялись – подхватывали бумажники, рвали цепочки, драли серьги из ушей. С кого-то тащили бурнус, с барышень – шали с брошками, с мужчин сдергивали жилетные часы. Музыканты еще играли, но уже вразнобой, потерянно, пока их совершенно не заглушили брань, вопли, рыдания, женский визг.
Те, кто вырвался, наконец, на Невский, всё еще надеясь, не веря, застывали: из середины Апрашки тянулся густой черный столб дыма, затмевая солнце и небо. Воняло гарью, рынок смердел. На Каменном мосту уже толпились загруженные вещами возы – когда успели? Мелькали помертвевшие от ужаса лица.
На самом рынке царил хаос. Все улицы и переулки, что вели на Садовую, были запружены снующими людьми, каретами, телегами с мебелью. Ножки стульев торчали вверх, громоздились тюки с товаром, оплавленные зеркала печально глядели в медленно смурневшее небо. Полицейские метались, расталкивая народ. Дорогу! Какое там… Лошади ржали, пожарные с бочками воды не могли пробиться – цеплялись за мебель, вставали, чтобы не подавить людей. Глухие удары, звон, скрежет – на улицу летели шубы, сапоги, картонки, отрезы сукна, подушки, исподнее. Ловкий худенький паренек лез по водосточной трубе; два плотных бородача, явно отец и сын, выламывали двери лавки; дюжий молодец в праздничной красной рубахе зачем-то сбивал вывеску. Кто-то пытался помочь, кто-то норовил украсть, кто-то, потеряв рассудок, пробивался сквозь толпу, бормоча несвязное.
Вдруг крикнули злобно: «Вот же, вот поджигатель! Лови!» Толпа рванула за молодым человеком с большим мешком, из которого тянулась струйка темного порошка. Остановили быстро. Окружили кольцом. Парень в низко надвинутом картузе, бледный как полотно, не убегал, что-то пытался сказать, да кто его слушал! Сбили картуз: рыжий! Рыжий и есть! Толканули, мешок порвался, содержимое посыпалось прямо в тлевшую под ногами ветошь, и ползший огненный язычок сейчас же угас. Не порох – песок он тащил, тушить! Эх… Беги-ка проворней! Разошлись разочарованно сразу, без лишних слов. И в тот же миг сгинул рыжий с мешком.
Пылал и соседний Щукинский рынок.
В птичьем ряду метались куры, горько пахло паленым пером. Клетки заперты, хозяев не видать. Клокотали индюшки, голосили петухи и гоготали гуси, на глазах превращались в обугленные тушки.
На Садовой шло другое веселье. Народ, окружив разорванные кули со сладостями, ссыпал в карманы орехи и пастилу, черпал чай горстями. Взять съестное – не грех, всё одно пойдет прахом! Молодые ребята из приказных уже набрели (знали?) на запас водки и шагали красные, бешеные. Кто поджег? Там и здесь вспыхивал злой шепоток: опять поляки!., студент балует! Только попадись!
На Фонтанке торговцы сбрасывали товар на подходившие к берегу барки, лодки. Над чугунной решеткой гранитной набережной летели ружья и картины, миски и горшки.
Вспыхнул дровяной склад в Апраксином переулке, загорелись окружавшие рынок дома. Жители, обезумев, выталкивали из окон перины, выбегали в шубах и теплых пальто, с иконами и шкатулками под мышкой.
Ветер делался всё сильнее и гнал пламя дальше, на Министерство внутренних дел. Вот уже огонь лизнул его крышу, еще миг – охватил и здание; белые бумаги полетели по набережной, а пламя перекинулось через Чернышев мост.
Розовое зарево дрожало над черными обгорелыми трубами. Сиреневело небо. Толпа погорельцев, гудя, валила к мосту. Вдруг крики, проклятия, вой стихли, подернулись восхищенным рыдающим выдохом: «Ур-ра!»
К Чернышеву мосту скакал верхом император.
Осунувшийся, белый, скорбно глядел он на свой народ, на алое сияние, осветившее ночь.
«Ура!» не смолкало. Народ тянул к нему руки, бабы падали на колени, голосили, плакали: кормилец, спаси! Сгорело всё, до последней ниточки. Глаза государя налились слезами.
Довольно. Я бросаю перо.
«Пожарная» статья
Пламя полыхало всю ночь. Наутро солнце озарило то, что осталось после пожара: «…там, где кипела деятельность, где стояли сотни лавок, набитые товаром, где тысячи торговцев зарабатывали себе хлеб, было гладкое поле; только кой-где на земле тлелись уголья, да стояли почернелые остовы каменных строений и придавали еще более ужаса этой страшной картине разрушения»
. На месте скученного торгового города тянулся едкий дым.
«В несчастный день 28 мая… сгорел Апраксин двор, Толкучий рынок, Щукин двор, много капитальных домов частных владельцев, дом Министерства внутренних дел, Чернышев и Апраксин переулки и многие дома и деревянные дворы по левой стороне Фонтанки, Троицкий переулок от Пяти углов до Щербакова переулка, Щербаков переулок, барки и рыбные садки по Фонтанке»
, – писал Лесков 30 мая 1862 года в печально знаменитой статье «Настоящие бедствия столицы», опубликованной в «Северной пчеле», не подозревая, как скоро это пламя поглотит и его самого.
«Да когда же в России что-нибудь не горело? Из этого петербургского удивления перед пожарами и поджогами только видно, что Петербург в самом деле иностранный город»