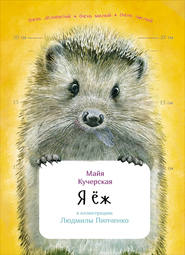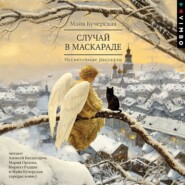По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лесков: Прозёванный гений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
окончательно оттолкнула его самого от революционного кружка.
Сам Суворин вспоминал о той поре: «Лесков пылал либерализмом и посвящал меня в тайны петербургской журналистики. Он предлагал мне даже изучать вместе с ним Фурье и Прудона по маленькой политико-экономической книжечке Гильдебрандта, явившейся летом 1861 года на русском языке…»
Вероятно, примерно к этому времени относится и история спасения «падшей Маргариты», описанная С. И. Смирновой-Сазоновой: «Лесков еще юношей, когда только еще переехал в Петербург, попал квартирантом к одной гулящ[ей] даме; она отдавала комнату с мебелью. Потом он спасал из убежища еще одну такую Маргариту, дочь пастора Ольгу. Эта Ольга из дома терпимости попала в убежище для падших женщин, но и там ей не понравилось. Она умоляла Лескова найти ей место. Тот и определил ее бонной в семейн[ый] дом, к св[оим] родственникам, скрыв от них ее происхождение»
.
Итак, Лесков образца 1861 года – левый, неблагонадежный, антиправительственный, спаситель падших дам совершенно в духе героев Чернышевского и романтически настроенных радикалов и вместе с тем набирающий силу журналист. Ему заказывают материалы московский журнал «Русская речь», петербургские «Отечественные записки» и «Указатель экономический»; он пишет на самые разные злободневные темы: о способах искоренения пьянства в рабочем классе, о бесправии несчастных «торговых мальчиков», отправленных «в люди», о расселении крестьянства, о раскольничьих браках, о народном здоровье и женской эмансипации. Рассуждения его звучат задиристо, хлестко, самоуверенно, но не слишком самостоятельно. Пока это скорее интеллектуальная мимикрия. В прошлом чиновник из канцелярии, затем практик «на возке», отчасти коммерсант, отчасти этнограф, Лесков в начале 1860-х кто угодно, только не мыслитель, и принимает на веру взгляды, которые исповедует его ближайший круг. Его статьи того времени – выжимки общелиберальных воззрений, оживленные бойкостью пера, наблюдательностью и житейским опытом.
Летом 1861 года создательница газеты «Русская речь» графиня Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир пригласила его погостить и осмотреться в Москве. Лесков откликнулся с охотой и любопытством. Он поселился на Большой Садовой во флигеле небольшой усадьбы, которую снимала Елизавета Васильевна. Жила она на средства младшей сестры Евдокии Петрово-Соловово, разбогатевшей благодаря удачному замужеству. Самой Елизаветы Васильевны в городе не было – летом она переехала на дачу в Сокольники, в Старую Слободку. Лесков часто приезжал туда, ныряя в совершенно новый для себя круг.
«Русская речь»
В начале 1860-х Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, урожденная Сухово-Кобылина, родная сестра знаменитого драматурга, с которым, правда, почти не поддерживала отношений, известный критик и писатель, выступала под псевдонимом Евгения Тур.
Раздражение – вот основное чувство, которое она стала вызывать у Лескова спустя совсем недолгое время. «Сальясиха» осталась в его памяти говорливой, шумной, фальшивой, недалекой, уже увядшей, слишком самоуверенной. Взгляды графини сформировались в 1840-е годы, но и спустя два десятка лет она жила, опираясь на идеалы юности, и пыталась руководить молодежью, быть властительницей дум – как смела?
Кажется, раздражала она не только его. «Elie est seche et ardente[26 - Она суха и пламенна (фр.).]», – говорил о ней один из самых любимых ее друзей, университетский профессор Тимофей Николаевич Грановский
, и непонятно, чего в этом лаконичном отзыве было больше – приязни или усмешки. Воспоминания других, самых разных и непохожих людей о Салиас-де-Турнемир также полны именно иронии.
Она любила оказывать протекцию, помогать, и все дружно признавали ее доброту[27 - «Графиня русская, замужем за французом, который после одной дуэли вынужден был вернуться к себе на родину. Она остроумна, добра, искренна… Мы с ней большие друзья. Она вращалась в светском обществе, но потом отдалилась от него. Она немолода, нехороша собой, но располагает к себе… а к тому же у нее и вправду настоящий талант», – характеризовал Елизавету Васильевну И. С. Тургенев (Тургенев И. С. Письмо Полине Виардо от 1 (13) декабря 1850 г. // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 2. М., 1987. С. 373).], но не могли простить взбалмошности, тревожности и какой-то безбашенной страстности, затмевавших ее достоинства. Над графиней смеялись даже самые близкие
. Вот и Николай Платонович Огарев, признавая за ней преданность и благородство, закончил всё-таки «чувством напряженного бешенства»; немаловажно, впрочем, что его с графиней недолгое время связывали романтические отношения
.
Елизавета Васильевна была одаренный литератор и не слишком счастливая женщина. В ранней юности она полюбила своего учителя, русского шеллингианца и университетского профессора Николая Ивановича Надеждина, но столбовым дворянам Сухово-Кобылиным сын сельского дьякона (снова попович!), несмотря на всю его образованность, показался неровней. Судя по переписке влюбленных, они готовы были пренебречь родительским словом. Случилась даже таинственная история с неудачным похищением невесты – Надеждин, по свидетельству Герцена в «Былом и думах», его проспал. Любопытно, что среди домашних учителей юной Елизаветы Васильевны был и Семен Егорович Раич, поэт и переводчик, однокашник Семена Дмитриевича Лескова.
Тогда Елизавета Васильевна и не подозревала, что впереди ее ждут гораздо более прямые пересечения с родом Лесковых. В конце концов она вышла замуж за французского графа, подарившего ей звучную фамилию Салиас-де-Турнемир, который приглянулся не ей, a papa и maman — за древность некогда славного рода. Попытавшись наладить в России производство шампанского, граф благополучно промотал приданое жены; шампанское вышло дурное, и никто не пожелал его покупать. Через восемь лет после женитьбы, в 1846 году, граф за участие в дуэли был выслан из Российской империи. Елизавета Васильевна с тремя детьми – Евгением, ставшим потом крупным чиновником и известным писателем, Марией и Ольгой – за мужем не последовала, да он не особенно и звал. Чтобы не оказаться приживалкой у собственной сестры и зятя, она занялась литературой, которой и до того была не чужда – Надеждин когда-то публиковал в «Телескопе» ее переводы. «Ради заработка явилась в русской литературе Евгения Тур», – писал впоследствии ее сын
. Но еще до расставания с мужем Елизавета Васильевна сделалась хозяйкой салона. Здесь собиралась окололитературная и академическая публика: кроме Грановского, культ которого царил в ее доме, к графине заглядывали и Александр Иванович Тургенев, и Огарев. После отъезда супруга она окончательно утвердилась в роли эмансипированной литературной дамы.
В 1849 году «Современник» опубликовал дебютную повесть Елизаветы Васильевны «Ошибка» под псевдонимом Евгения Тур – о молодом человеке, который искренней привязанности предпочел брак по расчету. В следующем году вышел роман «Племянница» о жизни и любовных увлечениях девушки Маши, снискавший в том же журнале несколько двусмысленную похвалу Тургенева: признав в авторе несомненный талант, он разделал роман под орех за многословие и отсутствие четкой структуры. Салиас-де-Турнемир обиделась, но дружеские отношения с Тургеневым сохранила и продолжила публиковать новые повести одну за другой. В 1856 году она начала сотрудничать с тогда еще либеральным «Русским вестником» Михаила Никифоровича Каткова, среди прочего опубликовала там и статью о Жорж Санд
. Иногда и саму ее, сильно льстя, называли русской Жорж Санд.
В начале 1860-х, одновременно с переменой декораций на литературной сцене, салон графини Салиас стала посещать публика заметно более демократичная: уже упомянутые нами литературные разночинцы Александр Левитов, Василий Слепцов, Алексей Суворин и Лесков.
«Дом ее сделался мало-помалу сборищем, бог знает, какого люда, – вспоминает Евгений Михайлович Феоктистов, историк, ученик Грановского и учитель детей графини, а впоследствии начальник Главного управления по делам печати, душитель свобод и ненавистник Лескова, – всё это ораторствовало о свободе, равенстве, о необходимости борьбы с правительством и т. п.»
. Графиня ни революционеркой, ни социалисткой не была, но терпеть не могла цензуры, давления и прочих ограничений и не прочь была об этом повитийствовать. «Сама она, – вспоминал Феоктистов, – была, бесспорно, женщина умная, образованная, талантливая, но исполненная больших странностей… Она вся была пыл, экстаз, восторженность, но условливалось это не сердцем, а невероятною какою-то болезненной ее нервозностью… Никогда, даже в очень старческие годы, не удавалось ей достигнуть неоцененного блага – душевного спокойствия; она всё волновалась, выходила из себя; одно до последней крайности доведенное увлечение сменялось у нее другим, столь же крайним; беседа с ней представляла нередко очень много интересного, но гораздо чаще действовала утомительно. И, Боже мой, как любила она говорить! Это была для нее жизненная потребность, необходимое условие ее существования; она была в состоянии просиживать по целым часам даже с вовсе неумным человеком, лишь бы он с покорностью прислушивался к потоку ее речи. Под влиянием обычного своего возбуждения она постоянно создавала себе миражи, видела людей не такими, какими они были в действительности, а какими создавало их ее воображение; эта женщина, по натуре своей в высшей степени искренняя, извращала факты, выдавала за достоверное то, чего никогда не было и не могло быть, и всё это отнюдь не с умыслом, а с твердою уверенностью в своей правдивости»
.
Не только общение с Грановским, Огаревым, очеркистом Василием Петровичем Боткиным, писателем и переводчиком Николаем Христофоровичем Кетчером, но и пристрастие к обсуждениям и рассуждениям выдает в Салиас-де-Турнемир человека говорливых сороковых годов. В ее доме не смолкали споры, бурлили долгие, страстные речи. И газету свою она, графиня с нерусской фамилией, назвала «Русская речь». Лесков, с его-то слухом к этой самой речи, и тут не мог не поперхнуться.
На свое издание Елизавета Васильевна употребила небольшой капитал, подаренный сестрой. Газета выходила раз в две недели, публиковала М. В. Авдеева, В. В. Крестовского, А. С. Суворина (под псевдонимом Василий Марков), профессора Ф. И. Буслаева, Левитова, Слепцова, наконец, Лескова. Познакомившись с молодым журналистом лично, Елизавета Васильевна пригласила его в сотрудники редакции, поручив вести «внутреннее обозрение», то есть отвечать за материалы о так хорошо знакомой ему русской жизни. Лескову было назначено жалованье в 1200 рублей в год с отдельной оплатой его собственных статей и заметок.
Это была внушительная сумма; будучи губернским секретарем (чин XII класса по Табели о рангах) в киевской Казенной палате, он получал по крайней мере в десять раз меньше[28 - Для сравнения: начинающие литераторы тогда получали от 30 до 50 рублей за авторский лист; следовательно, гонорар за роман в десять авторских листов мог быть до 500 рублей; жалованье учителей в народных училищах составляло 300–500 рублей в год, в гимназиях – 900—2500 рублей, фармацевтов – 700—1000 рублей (см.: Рейтблат А. И. Русская литература как социальный институт // Рейтблат А. И. Писать поперек: Статьи по биографике, социологии и истории литературы. М., 2014. С. 29). Гораздо хуже обстояли финансовые дела у низших чиновников: титулярный советник, чиновник X класса, в конце 1850-х годов получал около 260 рублей в год, коллежский асессор (VIII класс) – 715 рублей (см.: Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 80–84).]. Впервые журналистика стала полностью обеспечивать его материально. Получив это предложение, Лесков наверняка возликовал, но много лет спустя, вспоминая свою московскую редакционную жизнь, морщился. В ноябре 1888 года он писал Суворину:
«Сальяс и вообще наш тогдашний московский] кружок были плохою школою для молодого, не бездарного и не глупого, но маловоспитанного и не приготовленного к литературе человека, каков был я, попавший в литературу случайно и нехотя»
.
Вероятно, он был прав: издание не было особенно известным и профессиональным. Но ни в задиристый «Современник», ни в основательный, но уже утрачивавший последние крохи либерализма катковский «Русский вестник», ни в благонамеренные «Отечественные записки» Краевского его работать не приглашали, а Салиас позвала и обласкала.
Конечно, «Русская речь» оказалась заложницей ее литературных интересов и предпочтений, при всей их пестроте довольно ограниченных. Язвительный М. Е. Салтыков-Щедрин обозвал это издание «журналом амазонок» – на самом деле оно получилось слегка жеманным, эклектичным, с расплывчатым обликом. Чтобы получить право на обозрение политических новостей, Елизавета Васильевна назначила главным редактором Феоктистова и расширила название: к исконной «Русской речи» присоединялся «Московский вестник». Направления издания это не изменило, и фактически им по-прежнему руководила графиня.
В результате «Русская речь» сочетала очерки о московских нравах, архитектуре, маскарадах и балах с рассказами об общественной жизни в Англии и обзорами французских изданий, криминальные хроники с финансовыми и промышленными, сообщавшими о ценах на зерно, пушнину и кожи и разбиравшими особенности акцизной системы питейных сборов. Исторические заметки профессора Московского университета Сергея Соловьева, очерк Федора Буслаева о русских духовных стихах (Лесков познакомился с ним лично, так как он вместе с Николаем Тихонравовым заведовал в журнале «отделом истории литературы и народности русской и западной»), письмо о необходимости женского образования, статья Петра Бартенева о Пушкине на Юге, анонимная рецензия на новую поэму Некрасова «Несчастные» и, само собой, критические обзоры Евгении Тур – в этом наборе трудно разглядеть продуманную политику и направление издания, если не принять за них любовь ко всему хорошему и интересному в культуре и гуманитарных науках. Впрочем, в тематический спектр газеты входили и вопросы русского общественного развития. Им и посвятил себя Лесков с конца июля по конец ноября 1861 года.
Он вполне предсказуемо приветствовал освобождение крестьян, общественные и правительственные реформы, призывал повышать экономический и культурный уровень России, беспокоился о народном просвещении, разоблачал коррупцию и антисемитизм, скорбел о смерти «одного из благороднейших и талантливейших представителей» отечественной словесности Николае Добролюбове. Трижды оплакал в «Русской речи» Тараса Шевченко
. Материалов, в которых сквозь либеральный джентльменский набор пробивалось свое, было не так много. Помимо публикаций о Шевченко, это разве что нашумевшая заметка «О замечательном, но неблаготворном направлении некоторых современных писателей». Цензорам она показалась подозрительной и была задержана; в итоге ее опубликовали не в 57-м номере, как предполагалось, а в 60-м.
Укрывшись под псевдонимом В. Пересветов, Лесков скорбит в ней о «милом прошедшем» в «периодической литературе», сменившемся «шутовством, гаерством, паясничеством», невежеством и бранью, сердито отчитывает журналистов за «неуважение к личности и праву», за оскорбительность тона в адрес конкретных лиц, за жажду «ругаться и обругать»:
«Они не станут спорить о мнениях, как это делается в иностранных органах, выражающих стремление самых враждебных партий, а прямо ex abrupto[29 - Внезапно (лат.).] обзовут автора “узколобым”, “тупоголовым”, а статью его “ерундою”, “ерундищею” и т. п.; если же можно, то не упустят случая: запустят свою грязную руку и в самую душу автора и поворочают в ней своими пальцами все, что автор как человек считает своею святынею и хранит от прикосновения дружеских рук с запачканными ногтями»
.
Русские публицисты и в самом деле друг с другом не церемонились, а либерализация общества обернулась тем, что в журнальной полемике припечатать оппонента похлеще да побольнее стало считаться хорошим тоном. «В. Пересветов» был совершенно прав. Прав, но бестактен. Как заметил критик и исследователь Лескова Александр Измайлов, «в блестящий 1861 год беспристрастный ценитель не имел никакого права говорить о развале и разрухе, о какой говорит так рано озлобленный Лесков»
.
Ведь о «милом прошедшем» и падении журналистских нравов он скорбел, когда российская печать наконец пригубила свободы – да, всё еще ограниченной цензурой, но значительно в меньшей степени, чем прежде. К тому же заметка о дурных журналистских нравах была написана в тот самый момент, когда на улицах Петербурга и Москвы появилась прокламация «Великорусе», критиковавшая Крестьянскую реформу за половинчатость, призывавшая отдать крестьянам землю, которой они пользовались до освобождения, и грозивщая правительству пугачевщиной. Цензура вновь ужесточилась; статья Лескова «о неблаготворном направлении» попала под горячую руку и была задержана цензором за «площадные ругательства» (которые Лесков лишь цитировал и осуждал!), но после гневного письма Феоктистова всё же вышла в свет. Корить братьев-литераторов, за резкость выражений (явно метя в «Современник») летом 1861 года, было верхом недальновидности, нарушением неписаных корпоративных норм.
Этим дело не ограничилось. В тот самый год, когда прогремевшие на всю Россию статьи Михаила Ларионовича Михайлова в «Современнике»
, наконец, сдвинули с мертвой точки вопрос о женском равноправии, когда в русском обществе заговорили о праве женщины на высшее образование, получение профессии, квалифицированный труд и материальную независимость от мужа, а значит, и свободный выбор в любви, Лесков написал довольно двусмысленную статью «Русские женщины и эмансипация» о том, что неверно истолкованные идеи о женской свободе легко могут привести женщин к «разнузданности» и «падению», а рабство сменится отказом от нравственных ограничений. Отчасти это было резонно: безмозглые последователи и последовательницы в состоянии испортить самую лучшую идею. Однако опять-таки о «растлевающей пропаганде французских эмансипаторов» Лесков писал в то время, когда у женщин появился, наконец, шанс попасть в университеты. Он сам не так давно приветствовал появление дам-вольнослушательниц на лекциях в Петербургском университете
, но всё же не смог удержаться от нравоучений и предупреждений об опасных последствиях неверно понятого феминизма. Аскоченский в «Домашней беседе» запросто мог себе такое позволить – либеральному публицисту это было не к лицу. Но объяснить это Лескову, как видно, было некому – или он никого не слушал? Суворин писал своему воронежскому приятелю Михаилу Де-Пуле, что Лесков и графиня спорили
. Возможно, спорили они как раз о женском вопросе. Во всяком случае Салиас сочла нужным снабдить статью Лескова редакционным примечанием, в котором взяла идею женской эмансипации под защиту.
Взвешенный либерализм, умеренную оппозиционность, жоржсандизм и светский щебет «Русской речи» о французских книжных новинках внезапно вспарывали очерки о той самой Руси, которую было не разглядеть ни за публицистикой, ни за учеными статьями, ни тем более за статистическими отчетами о промышленности и финансах.
Василий Слепцов в дорожных заметках «Владимирка и Клязьма» рассказывал, как собирал по русским селам сведения об устройстве фабрик и строительстве железной дороги, как бродил по проселочным дорогам, заходил в дома и всюду натыкался на страх державших фабрики купцов перед властью и любыми расспросами, нищету рабочих и пьянство как единственный способ отвлечься.
Благопристойную гладкость журнала взрывали и сочинения Александра Левитова: жутковатый рассказ «Московские нищие на поминках», очерк «Целовальничиха», где половина персонажей пьет или мечтает выпить, а измученный бесконечным пешим путешествием герой то и дело проваливается из яви в сон… И еще здесь звучит не салонная, но та самая устная народная речь, в которую с такой жадностью вслушивался и Лесков. Приютившая путника сердобольная баба, ее непутевый муж-птицелов, деловая, резкая целовальничиха, ее кроткая сестра – все они у Левитова говорят и не могут остановиться, все рассказывают прохожему человеку, чем живы:
«– Ты куда же, красавик, собираешься-то? Ты вот отдохни возьми: в избе хошь, так в избе, а то бы на сенницу пошел, аль в сенях, может, хочешь? Ну, в сенях отдохни, – отдохни в сенях-то. Ишь вить, рай у нас в сенях-то. Ни мушки, ни блошки, ни комарика. <…>
– Иерусалим-то, стало быть, не в нашей стороне, а то солдатик один прохожий рассказывал мне, что до Иерусалима-то от нас только тысячу верст. А ведь дальше его, говорят, ни одного города нет. Там вон, солдатик-то говорит, за Иерусалимом-то – слышь? – и земля кончается, – там уж, он говорит, пошла вода одна да высь поднебесная. Ты не слыхал про это? Страшно, надобно быть, как там это вода-то около города ходит? <…>
– И вот ты слушай, Параша, хошь ты мне верь, хошь не верь, а я тебе вот что скажу: вчера на Наяновом бугре (знаешь, в соснечку-то?) в самую полночь клад я видал. Свечкой он, этта, да такой светлой, таким, этта, огнем разноцветным так и горит. Я к нему; а он взял с сосны-то дерев через пяток перелетел да и говорит мне (слышь?), человек ровно, и говорит: я, говорит, здесь лежу…»
Тихо льется река человеческой речи, неторопливо плывет в ней герой очерка. Левитов, явно влюбленный в эту музыку говорения, с большим вкусом передает все ее звуковые и лексические оттенки.
Сам Суворин вспоминал о той поре: «Лесков пылал либерализмом и посвящал меня в тайны петербургской журналистики. Он предлагал мне даже изучать вместе с ним Фурье и Прудона по маленькой политико-экономической книжечке Гильдебрандта, явившейся летом 1861 года на русском языке…»
Вероятно, примерно к этому времени относится и история спасения «падшей Маргариты», описанная С. И. Смирновой-Сазоновой: «Лесков еще юношей, когда только еще переехал в Петербург, попал квартирантом к одной гулящ[ей] даме; она отдавала комнату с мебелью. Потом он спасал из убежища еще одну такую Маргариту, дочь пастора Ольгу. Эта Ольга из дома терпимости попала в убежище для падших женщин, но и там ей не понравилось. Она умоляла Лескова найти ей место. Тот и определил ее бонной в семейн[ый] дом, к св[оим] родственникам, скрыв от них ее происхождение»
.
Итак, Лесков образца 1861 года – левый, неблагонадежный, антиправительственный, спаситель падших дам совершенно в духе героев Чернышевского и романтически настроенных радикалов и вместе с тем набирающий силу журналист. Ему заказывают материалы московский журнал «Русская речь», петербургские «Отечественные записки» и «Указатель экономический»; он пишет на самые разные злободневные темы: о способах искоренения пьянства в рабочем классе, о бесправии несчастных «торговых мальчиков», отправленных «в люди», о расселении крестьянства, о раскольничьих браках, о народном здоровье и женской эмансипации. Рассуждения его звучат задиристо, хлестко, самоуверенно, но не слишком самостоятельно. Пока это скорее интеллектуальная мимикрия. В прошлом чиновник из канцелярии, затем практик «на возке», отчасти коммерсант, отчасти этнограф, Лесков в начале 1860-х кто угодно, только не мыслитель, и принимает на веру взгляды, которые исповедует его ближайший круг. Его статьи того времени – выжимки общелиберальных воззрений, оживленные бойкостью пера, наблюдательностью и житейским опытом.
Летом 1861 года создательница газеты «Русская речь» графиня Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир пригласила его погостить и осмотреться в Москве. Лесков откликнулся с охотой и любопытством. Он поселился на Большой Садовой во флигеле небольшой усадьбы, которую снимала Елизавета Васильевна. Жила она на средства младшей сестры Евдокии Петрово-Соловово, разбогатевшей благодаря удачному замужеству. Самой Елизаветы Васильевны в городе не было – летом она переехала на дачу в Сокольники, в Старую Слободку. Лесков часто приезжал туда, ныряя в совершенно новый для себя круг.
«Русская речь»
В начале 1860-х Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, урожденная Сухово-Кобылина, родная сестра знаменитого драматурга, с которым, правда, почти не поддерживала отношений, известный критик и писатель, выступала под псевдонимом Евгения Тур.
Раздражение – вот основное чувство, которое она стала вызывать у Лескова спустя совсем недолгое время. «Сальясиха» осталась в его памяти говорливой, шумной, фальшивой, недалекой, уже увядшей, слишком самоуверенной. Взгляды графини сформировались в 1840-е годы, но и спустя два десятка лет она жила, опираясь на идеалы юности, и пыталась руководить молодежью, быть властительницей дум – как смела?
Кажется, раздражала она не только его. «Elie est seche et ardente[26 - Она суха и пламенна (фр.).]», – говорил о ней один из самых любимых ее друзей, университетский профессор Тимофей Николаевич Грановский
, и непонятно, чего в этом лаконичном отзыве было больше – приязни или усмешки. Воспоминания других, самых разных и непохожих людей о Салиас-де-Турнемир также полны именно иронии.
Она любила оказывать протекцию, помогать, и все дружно признавали ее доброту[27 - «Графиня русская, замужем за французом, который после одной дуэли вынужден был вернуться к себе на родину. Она остроумна, добра, искренна… Мы с ней большие друзья. Она вращалась в светском обществе, но потом отдалилась от него. Она немолода, нехороша собой, но располагает к себе… а к тому же у нее и вправду настоящий талант», – характеризовал Елизавету Васильевну И. С. Тургенев (Тургенев И. С. Письмо Полине Виардо от 1 (13) декабря 1850 г. // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 2. М., 1987. С. 373).], но не могли простить взбалмошности, тревожности и какой-то безбашенной страстности, затмевавших ее достоинства. Над графиней смеялись даже самые близкие
. Вот и Николай Платонович Огарев, признавая за ней преданность и благородство, закончил всё-таки «чувством напряженного бешенства»; немаловажно, впрочем, что его с графиней недолгое время связывали романтические отношения
.
Елизавета Васильевна была одаренный литератор и не слишком счастливая женщина. В ранней юности она полюбила своего учителя, русского шеллингианца и университетского профессора Николая Ивановича Надеждина, но столбовым дворянам Сухово-Кобылиным сын сельского дьякона (снова попович!), несмотря на всю его образованность, показался неровней. Судя по переписке влюбленных, они готовы были пренебречь родительским словом. Случилась даже таинственная история с неудачным похищением невесты – Надеждин, по свидетельству Герцена в «Былом и думах», его проспал. Любопытно, что среди домашних учителей юной Елизаветы Васильевны был и Семен Егорович Раич, поэт и переводчик, однокашник Семена Дмитриевича Лескова.
Тогда Елизавета Васильевна и не подозревала, что впереди ее ждут гораздо более прямые пересечения с родом Лесковых. В конце концов она вышла замуж за французского графа, подарившего ей звучную фамилию Салиас-де-Турнемир, который приглянулся не ей, a papa и maman — за древность некогда славного рода. Попытавшись наладить в России производство шампанского, граф благополучно промотал приданое жены; шампанское вышло дурное, и никто не пожелал его покупать. Через восемь лет после женитьбы, в 1846 году, граф за участие в дуэли был выслан из Российской империи. Елизавета Васильевна с тремя детьми – Евгением, ставшим потом крупным чиновником и известным писателем, Марией и Ольгой – за мужем не последовала, да он не особенно и звал. Чтобы не оказаться приживалкой у собственной сестры и зятя, она занялась литературой, которой и до того была не чужда – Надеждин когда-то публиковал в «Телескопе» ее переводы. «Ради заработка явилась в русской литературе Евгения Тур», – писал впоследствии ее сын
. Но еще до расставания с мужем Елизавета Васильевна сделалась хозяйкой салона. Здесь собиралась окололитературная и академическая публика: кроме Грановского, культ которого царил в ее доме, к графине заглядывали и Александр Иванович Тургенев, и Огарев. После отъезда супруга она окончательно утвердилась в роли эмансипированной литературной дамы.
В 1849 году «Современник» опубликовал дебютную повесть Елизаветы Васильевны «Ошибка» под псевдонимом Евгения Тур – о молодом человеке, который искренней привязанности предпочел брак по расчету. В следующем году вышел роман «Племянница» о жизни и любовных увлечениях девушки Маши, снискавший в том же журнале несколько двусмысленную похвалу Тургенева: признав в авторе несомненный талант, он разделал роман под орех за многословие и отсутствие четкой структуры. Салиас-де-Турнемир обиделась, но дружеские отношения с Тургеневым сохранила и продолжила публиковать новые повести одну за другой. В 1856 году она начала сотрудничать с тогда еще либеральным «Русским вестником» Михаила Никифоровича Каткова, среди прочего опубликовала там и статью о Жорж Санд
. Иногда и саму ее, сильно льстя, называли русской Жорж Санд.
В начале 1860-х, одновременно с переменой декораций на литературной сцене, салон графини Салиас стала посещать публика заметно более демократичная: уже упомянутые нами литературные разночинцы Александр Левитов, Василий Слепцов, Алексей Суворин и Лесков.
«Дом ее сделался мало-помалу сборищем, бог знает, какого люда, – вспоминает Евгений Михайлович Феоктистов, историк, ученик Грановского и учитель детей графини, а впоследствии начальник Главного управления по делам печати, душитель свобод и ненавистник Лескова, – всё это ораторствовало о свободе, равенстве, о необходимости борьбы с правительством и т. п.»
. Графиня ни революционеркой, ни социалисткой не была, но терпеть не могла цензуры, давления и прочих ограничений и не прочь была об этом повитийствовать. «Сама она, – вспоминал Феоктистов, – была, бесспорно, женщина умная, образованная, талантливая, но исполненная больших странностей… Она вся была пыл, экстаз, восторженность, но условливалось это не сердцем, а невероятною какою-то болезненной ее нервозностью… Никогда, даже в очень старческие годы, не удавалось ей достигнуть неоцененного блага – душевного спокойствия; она всё волновалась, выходила из себя; одно до последней крайности доведенное увлечение сменялось у нее другим, столь же крайним; беседа с ней представляла нередко очень много интересного, но гораздо чаще действовала утомительно. И, Боже мой, как любила она говорить! Это была для нее жизненная потребность, необходимое условие ее существования; она была в состоянии просиживать по целым часам даже с вовсе неумным человеком, лишь бы он с покорностью прислушивался к потоку ее речи. Под влиянием обычного своего возбуждения она постоянно создавала себе миражи, видела людей не такими, какими они были в действительности, а какими создавало их ее воображение; эта женщина, по натуре своей в высшей степени искренняя, извращала факты, выдавала за достоверное то, чего никогда не было и не могло быть, и всё это отнюдь не с умыслом, а с твердою уверенностью в своей правдивости»
.
Не только общение с Грановским, Огаревым, очеркистом Василием Петровичем Боткиным, писателем и переводчиком Николаем Христофоровичем Кетчером, но и пристрастие к обсуждениям и рассуждениям выдает в Салиас-де-Турнемир человека говорливых сороковых годов. В ее доме не смолкали споры, бурлили долгие, страстные речи. И газету свою она, графиня с нерусской фамилией, назвала «Русская речь». Лесков, с его-то слухом к этой самой речи, и тут не мог не поперхнуться.
На свое издание Елизавета Васильевна употребила небольшой капитал, подаренный сестрой. Газета выходила раз в две недели, публиковала М. В. Авдеева, В. В. Крестовского, А. С. Суворина (под псевдонимом Василий Марков), профессора Ф. И. Буслаева, Левитова, Слепцова, наконец, Лескова. Познакомившись с молодым журналистом лично, Елизавета Васильевна пригласила его в сотрудники редакции, поручив вести «внутреннее обозрение», то есть отвечать за материалы о так хорошо знакомой ему русской жизни. Лескову было назначено жалованье в 1200 рублей в год с отдельной оплатой его собственных статей и заметок.
Это была внушительная сумма; будучи губернским секретарем (чин XII класса по Табели о рангах) в киевской Казенной палате, он получал по крайней мере в десять раз меньше[28 - Для сравнения: начинающие литераторы тогда получали от 30 до 50 рублей за авторский лист; следовательно, гонорар за роман в десять авторских листов мог быть до 500 рублей; жалованье учителей в народных училищах составляло 300–500 рублей в год, в гимназиях – 900—2500 рублей, фармацевтов – 700—1000 рублей (см.: Рейтблат А. И. Русская литература как социальный институт // Рейтблат А. И. Писать поперек: Статьи по биографике, социологии и истории литературы. М., 2014. С. 29). Гораздо хуже обстояли финансовые дела у низших чиновников: титулярный советник, чиновник X класса, в конце 1850-х годов получал около 260 рублей в год, коллежский асессор (VIII класс) – 715 рублей (см.: Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 80–84).]. Впервые журналистика стала полностью обеспечивать его материально. Получив это предложение, Лесков наверняка возликовал, но много лет спустя, вспоминая свою московскую редакционную жизнь, морщился. В ноябре 1888 года он писал Суворину:
«Сальяс и вообще наш тогдашний московский] кружок были плохою школою для молодого, не бездарного и не глупого, но маловоспитанного и не приготовленного к литературе человека, каков был я, попавший в литературу случайно и нехотя»
.
Вероятно, он был прав: издание не было особенно известным и профессиональным. Но ни в задиристый «Современник», ни в основательный, но уже утрачивавший последние крохи либерализма катковский «Русский вестник», ни в благонамеренные «Отечественные записки» Краевского его работать не приглашали, а Салиас позвала и обласкала.
Конечно, «Русская речь» оказалась заложницей ее литературных интересов и предпочтений, при всей их пестроте довольно ограниченных. Язвительный М. Е. Салтыков-Щедрин обозвал это издание «журналом амазонок» – на самом деле оно получилось слегка жеманным, эклектичным, с расплывчатым обликом. Чтобы получить право на обозрение политических новостей, Елизавета Васильевна назначила главным редактором Феоктистова и расширила название: к исконной «Русской речи» присоединялся «Московский вестник». Направления издания это не изменило, и фактически им по-прежнему руководила графиня.
В результате «Русская речь» сочетала очерки о московских нравах, архитектуре, маскарадах и балах с рассказами об общественной жизни в Англии и обзорами французских изданий, криминальные хроники с финансовыми и промышленными, сообщавшими о ценах на зерно, пушнину и кожи и разбиравшими особенности акцизной системы питейных сборов. Исторические заметки профессора Московского университета Сергея Соловьева, очерк Федора Буслаева о русских духовных стихах (Лесков познакомился с ним лично, так как он вместе с Николаем Тихонравовым заведовал в журнале «отделом истории литературы и народности русской и западной»), письмо о необходимости женского образования, статья Петра Бартенева о Пушкине на Юге, анонимная рецензия на новую поэму Некрасова «Несчастные» и, само собой, критические обзоры Евгении Тур – в этом наборе трудно разглядеть продуманную политику и направление издания, если не принять за них любовь ко всему хорошему и интересному в культуре и гуманитарных науках. Впрочем, в тематический спектр газеты входили и вопросы русского общественного развития. Им и посвятил себя Лесков с конца июля по конец ноября 1861 года.
Он вполне предсказуемо приветствовал освобождение крестьян, общественные и правительственные реформы, призывал повышать экономический и культурный уровень России, беспокоился о народном просвещении, разоблачал коррупцию и антисемитизм, скорбел о смерти «одного из благороднейших и талантливейших представителей» отечественной словесности Николае Добролюбове. Трижды оплакал в «Русской речи» Тараса Шевченко
. Материалов, в которых сквозь либеральный джентльменский набор пробивалось свое, было не так много. Помимо публикаций о Шевченко, это разве что нашумевшая заметка «О замечательном, но неблаготворном направлении некоторых современных писателей». Цензорам она показалась подозрительной и была задержана; в итоге ее опубликовали не в 57-м номере, как предполагалось, а в 60-м.
Укрывшись под псевдонимом В. Пересветов, Лесков скорбит в ней о «милом прошедшем» в «периодической литературе», сменившемся «шутовством, гаерством, паясничеством», невежеством и бранью, сердито отчитывает журналистов за «неуважение к личности и праву», за оскорбительность тона в адрес конкретных лиц, за жажду «ругаться и обругать»:
«Они не станут спорить о мнениях, как это делается в иностранных органах, выражающих стремление самых враждебных партий, а прямо ex abrupto[29 - Внезапно (лат.).] обзовут автора “узколобым”, “тупоголовым”, а статью его “ерундою”, “ерундищею” и т. п.; если же можно, то не упустят случая: запустят свою грязную руку и в самую душу автора и поворочают в ней своими пальцами все, что автор как человек считает своею святынею и хранит от прикосновения дружеских рук с запачканными ногтями»
.
Русские публицисты и в самом деле друг с другом не церемонились, а либерализация общества обернулась тем, что в журнальной полемике припечатать оппонента похлеще да побольнее стало считаться хорошим тоном. «В. Пересветов» был совершенно прав. Прав, но бестактен. Как заметил критик и исследователь Лескова Александр Измайлов, «в блестящий 1861 год беспристрастный ценитель не имел никакого права говорить о развале и разрухе, о какой говорит так рано озлобленный Лесков»
.
Ведь о «милом прошедшем» и падении журналистских нравов он скорбел, когда российская печать наконец пригубила свободы – да, всё еще ограниченной цензурой, но значительно в меньшей степени, чем прежде. К тому же заметка о дурных журналистских нравах была написана в тот самый момент, когда на улицах Петербурга и Москвы появилась прокламация «Великорусе», критиковавшая Крестьянскую реформу за половинчатость, призывавшая отдать крестьянам землю, которой они пользовались до освобождения, и грозивщая правительству пугачевщиной. Цензура вновь ужесточилась; статья Лескова «о неблаготворном направлении» попала под горячую руку и была задержана цензором за «площадные ругательства» (которые Лесков лишь цитировал и осуждал!), но после гневного письма Феоктистова всё же вышла в свет. Корить братьев-литераторов, за резкость выражений (явно метя в «Современник») летом 1861 года, было верхом недальновидности, нарушением неписаных корпоративных норм.
Этим дело не ограничилось. В тот самый год, когда прогремевшие на всю Россию статьи Михаила Ларионовича Михайлова в «Современнике»
, наконец, сдвинули с мертвой точки вопрос о женском равноправии, когда в русском обществе заговорили о праве женщины на высшее образование, получение профессии, квалифицированный труд и материальную независимость от мужа, а значит, и свободный выбор в любви, Лесков написал довольно двусмысленную статью «Русские женщины и эмансипация» о том, что неверно истолкованные идеи о женской свободе легко могут привести женщин к «разнузданности» и «падению», а рабство сменится отказом от нравственных ограничений. Отчасти это было резонно: безмозглые последователи и последовательницы в состоянии испортить самую лучшую идею. Однако опять-таки о «растлевающей пропаганде французских эмансипаторов» Лесков писал в то время, когда у женщин появился, наконец, шанс попасть в университеты. Он сам не так давно приветствовал появление дам-вольнослушательниц на лекциях в Петербургском университете
, но всё же не смог удержаться от нравоучений и предупреждений об опасных последствиях неверно понятого феминизма. Аскоченский в «Домашней беседе» запросто мог себе такое позволить – либеральному публицисту это было не к лицу. Но объяснить это Лескову, как видно, было некому – или он никого не слушал? Суворин писал своему воронежскому приятелю Михаилу Де-Пуле, что Лесков и графиня спорили
. Возможно, спорили они как раз о женском вопросе. Во всяком случае Салиас сочла нужным снабдить статью Лескова редакционным примечанием, в котором взяла идею женской эмансипации под защиту.
Взвешенный либерализм, умеренную оппозиционность, жоржсандизм и светский щебет «Русской речи» о французских книжных новинках внезапно вспарывали очерки о той самой Руси, которую было не разглядеть ни за публицистикой, ни за учеными статьями, ни тем более за статистическими отчетами о промышленности и финансах.
Василий Слепцов в дорожных заметках «Владимирка и Клязьма» рассказывал, как собирал по русским селам сведения об устройстве фабрик и строительстве железной дороги, как бродил по проселочным дорогам, заходил в дома и всюду натыкался на страх державших фабрики купцов перед властью и любыми расспросами, нищету рабочих и пьянство как единственный способ отвлечься.
Благопристойную гладкость журнала взрывали и сочинения Александра Левитова: жутковатый рассказ «Московские нищие на поминках», очерк «Целовальничиха», где половина персонажей пьет или мечтает выпить, а измученный бесконечным пешим путешествием герой то и дело проваливается из яви в сон… И еще здесь звучит не салонная, но та самая устная народная речь, в которую с такой жадностью вслушивался и Лесков. Приютившая путника сердобольная баба, ее непутевый муж-птицелов, деловая, резкая целовальничиха, ее кроткая сестра – все они у Левитова говорят и не могут остановиться, все рассказывают прохожему человеку, чем живы:
«– Ты куда же, красавик, собираешься-то? Ты вот отдохни возьми: в избе хошь, так в избе, а то бы на сенницу пошел, аль в сенях, может, хочешь? Ну, в сенях отдохни, – отдохни в сенях-то. Ишь вить, рай у нас в сенях-то. Ни мушки, ни блошки, ни комарика. <…>
– Иерусалим-то, стало быть, не в нашей стороне, а то солдатик один прохожий рассказывал мне, что до Иерусалима-то от нас только тысячу верст. А ведь дальше его, говорят, ни одного города нет. Там вон, солдатик-то говорит, за Иерусалимом-то – слышь? – и земля кончается, – там уж, он говорит, пошла вода одна да высь поднебесная. Ты не слыхал про это? Страшно, надобно быть, как там это вода-то около города ходит? <…>
– И вот ты слушай, Параша, хошь ты мне верь, хошь не верь, а я тебе вот что скажу: вчера на Наяновом бугре (знаешь, в соснечку-то?) в самую полночь клад я видал. Свечкой он, этта, да такой светлой, таким, этта, огнем разноцветным так и горит. Я к нему; а он взял с сосны-то дерев через пяток перелетел да и говорит мне (слышь?), человек ровно, и говорит: я, говорит, здесь лежу…»
Тихо льется река человеческой речи, неторопливо плывет в ней герой очерка. Левитов, явно влюбленный в эту музыку говорения, с большим вкусом передает все ее звуковые и лексические оттенки.