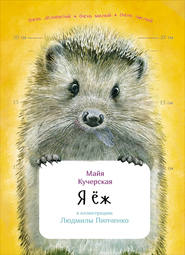По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лесков: Прозёванный гений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
.
«Бекет у лощинки поставили, а вчера тут вот сусед вез баринка в своем тож кипаже: весь задок-то истрошили».
«Животов отнимет, а то и веку решит!»
«А ты пьешь? – спрашивает купец. – Теперь не пью, а как поднесут, так выпью»
.
Эти переклички отдельных реплик-колокольчиков в конце концов сливаются в густой звон анекдотов, страшных историй, старообрядческих апокрифов.
«Вот как разошлись это все, куда кого послал странник, воины и вернулись от царя с пребольшущим железным костылем[36 - Костыль – большой гвоздь, несортовой. Костыли отковываются нарочно, и размер их соответствует надобности, для которой они предназначаются. (Прим. Н. С. Лескова)], наставили этот костыль страннику прямо против сердца и пробили им насквозь его грудочку. А он ни разу и не вскрикнул, только воздохнул ко Господу и сказал воинам: “Скажите, говорит, вашему царю злочестивому, что на мое место, говорит, другие придут, из каждой, говорит, из капли моей крови по человеку вырастет, и станут те люди поучать народ любви и единодушию”, – да так и испустил свою душеньку ко Господу»
.
Где легенды, там и тонкие сны, и дивные видения. В финале «Разбойника» дюжий хозяин постоялого двора рассказывает, как испугался встреченного в лесу «разбойника», одетого в «лохмотенки суконные» и похожего на беглого солдата. Испугавшись, что бродяга отнимет у него деньги, хозяин ударил его палкой. Тот упал и лежал ничком, «словно лягушка какая». Но на обратном пути его уже не было, тела так и не нашли. Убил его хозяин или только пришиб, неясно. Заканчивается текст жуткой фантазией рассказчика:
«Укаченные ездою, все спали прекрасно, только мне все снился солдатик, о котором говорили с вечера.
Ползет будто он к лесу, а голова у него совсем мертвая, зеленая, глаза выперло, губы синие, и язык прикушен между зубов, из носа и из глаз сочится кровь; язык тоже в крови, а за сапожонком ножик в самодельной ручке, обвитой старой проволочкой, кипарисный киевский крестик да в маленькой тряпочке землицы щепотка. Должно быть, занес он ту земельку издалека, с родной стороны, где старуха мать с отцом ждут сына на побывочку, а может быть, и молодая жена тоже ждет, либо вешается с казаками, или уж на порах у бабки сидит.
Ждите, друзья, ждите»
.
В один абзац Лесков уместил целый мир, в котором соединились и сострадание рассказчика к солдатику, и вполне писательская внимательность к мелочам, и гоголевская Диканька, и стилизация под солдатскую речь, и злое отчаяние – до дома этому путнику не добраться. Вот она – мрачная жуть настоящей русской народной жизни.
И «Разбойник», и «В тарантасе», опубликованные в «Северной пчеле», четко обозначают вектор интересов раннего Лескова: он исследует сознание простого русского человека, пределы его фобий, страхов, особенности мировоззрения. Не идеализирует, не высмеивает, не презирает, только наблюдает и слушает – зорко, чутко.
В ряду самых ранних беллетристических сочинений Лескова выделяется рассказ «Погасшее дело», опубликованный в артельном журнале «Век»
. Хронологически это самый первый, законченный и полноценный опыт Лескова в прозе. Именно этот рассказ обнаруживает: сочинитель задиристых заметок, имевший все шансы вырасти в еще одного публициста средней руки, несчастливый муж, неумелый отец, не слишком верный товарищ внезапно оказался писателем большого дара с неповторимым голосом и оригинальной темой. Лесков как будто и сам сознавал, что вступает в новый этап литературного пути: именно «Погасшее дело» он впервые подписал псевдонимом «М. Стебницкий» и после этого использовал его регулярно вплоть до 1872 года[37 - Другие подписи и псевдонимы Лескова – «Фрейшиц», «В. Пересветов», «Николай Понукалов», «Николай Горохов», «Кто-то», «Дм. М-ев», «Н.», «Член общества», «Псаломщик», «Свящ. П. Касторский», «Дивьянк», «М. П.», «Б. Протозанов», «Николай-ов», «Н. Л.», «Н. Л.-в», «Любитель старины», «Проезжий», «Любитель часов», «N. L.», «Автор заметки в № 82», «Л.» (см.: Лесков А. Н. Указ. соч. Т. 1.С. 129).]. Происхождение псевдонима не совсем ясно; А. Н. Лесков связывает его с именем любимого орловского столоначальника отца Иллариона Матвеевича Сребницкого, библиограф произведений Лескова П. В. Быков – со словом «степь»
. Сам автор объяснений не оставил.
Путь от публицистической заметки, даже длинного журналистского расследования, каким, по сути, были «Очерки винокуренной промышленности», к художественной прозе неблизкий. Лесков проделал его, опубликовав три рассказа на границе художественной и документальной прозы.
В «Погасшем деле» он рассказывает анекдот, как мужики одного дальнего села, борясь с засухой, по совету прохожего «грамотея» выкопали из могилы труп пьяницы-пономаря и выбросили его за церковную ограду, после чего дождь – «теплый, частый, благодатный» – полил как из ведра и шел двое суток, да так обильно, что водные потоки унесли мертвое тело в неведомом направлении. Мужики сначала приходили советоваться к священнику (тот, разумеется, им объяснил, что не надо выкапывать мертвых), а теперь явились покаяться, что его не послушались. Батюшка отправился в губернский город хлопотать, чтобы дело о вскрытии могилы и исчезновении покойника замяли. Сначала он попытался поговорить с секретарем консистории, но тот оказался недоступен; затем побывал у помещика, который и уладил дело, повелев только собрать с мужиков тысячу рублей, якобы отданную нужным людям за успешное разрешение казуса.
Спустя семь лет, в 1869-м, для издания «Рассказы Стебницкого» Лесков переименовал «Погасшее дело» в «Засуху» и многое переписал; в результате игривый анекдот о реальном закрытом юридическом деле превратился в рассказ с глубоким и страшноватым посылом.
Сравнивая две редакции текста, можно увидеть процесс превращения публициста и репортера в писателя.
В первом варианте у рассказа был эпиграф – пословица «Быль – не укор», придававшая тексту задора; во втором, более драматичном, Лесков эпиграф снял. Исчез и подзаголовок «Из записок моего деда», возможно, бывший не литературной виньеткой, а правдивой ссылкой. Речь шла о деде по матери Петре Сергеевиче Алферьеве: как сообщал Лесков в примечаниях к очерку «Борьба за преобладание (1820–1840)», тот вел «ежедневные записи всего, по его мнению, замечательного», в которых встречаются «любопытные рассказы»
. Эти бы записки почитать! Но судьба их неведома. Петр Сергеевич был, как мы помним, управляющим селом Гороховом, в котором появился на свет его внук, и немало сил положил на сражения с мужицкой верой в порчу, сглаз и колдунов
.
И всё же во втором варианте перед нами не просто жутковатая история о дикости мужиков, силе языческих верований в русском народе, взяточничестве консисторщиков и высокомерии помещика – для высказывания об этом достало бы ресурсов публицистического жанра. «Засуха» – полноценный художественный рассказ с главным героем и тонко выписанными типажами: «серый мужичонка в рваном кафтанишке» – «олицетворение обдерганного крестьянского мира»; седой старик «с простодушным выражением лица», поехавший в город вместе с приходским священником; вальяжный брезгливый барин, презирающий и собственных крестьян, и сельского попика; остающийся за кадром грозный секретарь консистории Афанасий Иванович, который «лише змея желтобрюхого». У него одно про всех угощение: «много не говорит, а за аксиосы да об стол мордою»
.
И главный герой – сельский священник, забитый, кроткий, глубоко сострадающий своим прихожанам, но не имеющий возможности развеять тьму их невежества. Это выглядит почти символично: в центре первого рассказа свежеиспеченного писателя оказался скромный батюшка, представитель сословия, внимательным и проникновенным портретистом которого и станет Лесков. Польская исследовательница Марта Лукашевич указывает, что это был первый рассказ в русской литературе со священником в роли главного героя – раньше беллетристы интересовались скорее семинаристами и их бытом
. Впрочем, с середины 1860-х годов ситуация изменилась, и священники всё чаще появлялись в изящной словесности[38 - См.: «Озерской приход» Н. Ф. Бунакова (1863), «Ставленник» Ф. М. Решетникова (1864), «На погосте» – первая часть романа «Перед рассветом» Н. А. Благовещенского (1865), «Семейство Снежиных» В. А. Райского (1871), «Жизнь сельского священника» Ф. В. Ливанова (1877), «Велено приискивать» Г. И. Недетовского (1877), «Господа депутаты» А. И. Краснопольского (1878) и др.], что и понятно: русскую литературу создавали теперь сыновья иереев и дьяконов.
Священник в рассказе Лескова, очевидно, был списан с реального, уже известного нам отца Алексея Львова из села Собакина, который венчал чету Лесковых, крестил их сына, будущего писателя, и потом не раз еще появлялся на страницах его сочинений
. В первом варианте рассказа – «Погасшем деле» – он выведен под своим именем, во втором переименован в Илиодора.
Отец Илиодор – посредник между крестьянским «миром», помещиком и также официальной Церковью, но представляет всё же интересы крестьян: два дня едет в своей неуклюжей тряской тележке в далекий губернский город, чтобы заступиться за мужиков; ласково утешает и дворовых девушек, набранных в городской барский дом из того села, где он служит, и двоих своих сыновей, которые учатся здесь же в семинарии. В конце концов отец Илиодор спасает мужиков от каторги.
Один из опорных эпизодов рассказа – мимолетная встреча героя с сыновьями: грамматиком (второклассником) и ритором (четвероклассником).
«Домой он вернулся поздненько, погладил белокурую голову спящего сына, грамматика, и поговорил со старшим, ритором, об отце ректоре, о задачках, разрядах и тому подобных ученых вопросах… Каганец погасили, и в комнате всё стихло, только за досчатою перегородкою два семинариста долго за полночь бубнили вслух: один отчетисто, с сознанием своего собственного достоинства и достоинства произносимых слов, вырубал: “Homo improbus aliquando dolenter flagieiorum suorum recordabitur”[39 - Дурной человек когда-нибудь с прискорбием будет вспоминать свой бесчестный поступок (лат.).], а другой заливчато зубрил: “Полатини Homo, человек, сие звучит энергично, твердо, но грубо; а по-французски человек л’ом — это мягко, гибко и нежно”.
Отец Илиодор всё это слушал, слушал и задремал, убаюкиваемый тихим, как бы перепелиным, воркотанием того же семинариста, заучивавшего на сон грядущий: батю бато — бить палкою; батю бато — бить палкою; батю бато — бить палкою»
.
Возможно, Лесков здесь еще и каламбурит – получается, что батю бьют.
Правда, неясно, спит ли грамматик, чью белокурую голову погладил отец, или зубрит латынь. А может, он нарочно проснулся, чтобы повторить урок? Положим, что так. Но важнее другое: оба мальчика заучивают непонятную абракадабру, никак не связанную ни с их нынешней, бурсацкой, ни с будущей пастырской жизнью, да даже и к латыни имеющую отдаленное отношение.
Форма «батю бато», вероятно, отсылает к латинскому глаголу battuo — бить, избивать. Семинарист явно заучивает основные формы этого глагола, но в загадочном порядке и с искажениями: «батю» – это, возможно, форма прошедшего времени bat(t)ui и означает «я избил», bat(t)uo — настоящее время: «я избиваю»[40 - Благодарю за консультацию Милу Назырову.]. Но в таком порядке спряжения глаголов не учат. Можно, конечно, предположить, что Лесков к тому времени, когда писал рассказ, подзабыл гимназические уроки. Но как раз с латынью дела у Николая обстояли не так уж плохо – в начале гимназического учения он получал «четверки»
, а в экзаменационной ведомости, составленной летом 1846 года, когда он, не переведенный в четвертый класс, покидал гимназию, по латинскому языку у него стояла «тройка», тогда как по алгебре – «единица», по немецкому и геометрии – «двойка»
.
Если предположить, что латынь Лесков знал прилично, то форма «батю бато», то есть «избивал избиваю», использована им в рассказе совершенно сознательно. Смысл этого соединения прошедшего и настоящего времени прост и печален: избиению нет конца. Человека (Homo) в России били и бьют. Для усиления эффекта Лесков не только трижды устами гимназиста повторяет эту формулу, но и добавляет ей выразительности, переводя ее как «бить палкою», хотя в значении глагола batuere никакой палки нет – это просто «бить». Возможно, повлияло тут и французское «baton» («палка»), но Лескову эта палка необходима – с ней битье из абстрактного слова делается конкретным действием, она усиливает ощущение неравенства: это уже не просто драка, в которой участники колотят друг друга на равных, а избиение.
Так сквозь мимолетную сцену проступает ключевая для Лескова тема человеческого достоинства, попираемого в России всегда и везде. Латынь внезапно оказывается языком описания российского бытия.
И если один семинарист – очевидно, тот, что помладше, – еще готов наполняться важностью от величавой загадочности латинских выражений, другому, долбящему латынь четвертый год, похоже, уже всё равно. Слова, которые повторяют мальчики, делят мир на два полюса: грубый, где человека «бьют палкой», энергично и твердо, и нежный, где человек может себе позволить быть мягким и гибким.
Последнее возможно лишь в недоступном мире французского языка и европейских просветительских ценностей. Помещик «с розовыми ногтями» в беседе с отцом Илиодором, конечно, недаром упоминает двух знаменитых французских священнослужителей XVII века: «Еще бы, загнали попа в село без гроша, без книги, да проповедника из него, Фенелона или Бурдалу требовать». Франсуа Фенелон – просветитель и воспитатель наследника престола, внука короля Людовика XIV, автор «Приключений Телемака», авантюрного и одновременно просветительского романа о том, как мудрый государь должен управлять своим народом и страной. Луи Бурдалу – один из самых знаменитых французских ораторов XVII столетия, прозванный «королем проповедников и проповедником королей». Тот же помещик из рассказа Лескова говорит, что пастор у немцев и англичан – «это человек, это член общества». Там он пастырь, а в России, как остроумно замечает отец Илиодор, пастух: «Вы изволите говорить, что не пастыри-то, так я к этому: пастухи, говорю, сельская бедность… в полевом ничтожестве… пастухи…»
Но не так прост и наш «пастух». Засыпая под бубнеж сыновей, он видит во сне семь тучных и семь тощих коров и смущается, что «сон не по чину»: в Книге Бытия подобный сон видит египетский фараон, а праведный Иосиф толкует его как предсказание грядущих семи лет изобилия и семи лет голода (Быт. 41:1—35). Погружая героя в сон, пронизанный библейской символикой, Лесков, возможно, намекает на его праведность и богоизбранность, хотя сам отец Илиодор ощущает только свое недостоинство.
Второе видение посетило отца Илиодора, когда он в тележке отправился домой, после того как старик-крестьянин сообщил ему: мужики не просто вынули тело пономаря из могилы, но и из содранного с трупа сала сделали свечку, зажгли – тут и полил дождь.
«Телеман-сорт, “корабль, погибающий в волнах”, припоминает отец Илиодор и сейчас же впадает в раздумье: что это, однако, такое телеман, телеман… телеман-сорт, где он слышал это французское слово?.. Ах, какая досада: ни за что не вспомнишь! Семинарист ли это учил, или это он сам знал прежде? Да, это он сам знал: вот оно что! – он видел печать, на которой был вырезан корабль на волнах и над ним надпись, которую он вычитал и перевел себе таким образом: телеман-сорт – это “корабль, погибающий в волнах”.
Отец Илиодор заснул и, ныряя по кочкам, воображает самого себя кораблем, погибающим в волнах. И как отец Илиодор ни хочет спастись, как он ни старается выбиться – никак не выбьется: за ноги его сцапал и тянет тяжелый, как тяга земная, мучинко с разорванным воротом, а на макушке сидит давешний королевское еруслание и пихает ему в рот красную пробку.
– Вот это, – говорит королевское еруслание, – инструмент, чтобы ты, идучи ко дну, вслух отходной себе не читал»
«Бекет у лощинки поставили, а вчера тут вот сусед вез баринка в своем тож кипаже: весь задок-то истрошили».
«Животов отнимет, а то и веку решит!»
«А ты пьешь? – спрашивает купец. – Теперь не пью, а как поднесут, так выпью»
.
Эти переклички отдельных реплик-колокольчиков в конце концов сливаются в густой звон анекдотов, страшных историй, старообрядческих апокрифов.
«Вот как разошлись это все, куда кого послал странник, воины и вернулись от царя с пребольшущим железным костылем[36 - Костыль – большой гвоздь, несортовой. Костыли отковываются нарочно, и размер их соответствует надобности, для которой они предназначаются. (Прим. Н. С. Лескова)], наставили этот костыль страннику прямо против сердца и пробили им насквозь его грудочку. А он ни разу и не вскрикнул, только воздохнул ко Господу и сказал воинам: “Скажите, говорит, вашему царю злочестивому, что на мое место, говорит, другие придут, из каждой, говорит, из капли моей крови по человеку вырастет, и станут те люди поучать народ любви и единодушию”, – да так и испустил свою душеньку ко Господу»
.
Где легенды, там и тонкие сны, и дивные видения. В финале «Разбойника» дюжий хозяин постоялого двора рассказывает, как испугался встреченного в лесу «разбойника», одетого в «лохмотенки суконные» и похожего на беглого солдата. Испугавшись, что бродяга отнимет у него деньги, хозяин ударил его палкой. Тот упал и лежал ничком, «словно лягушка какая». Но на обратном пути его уже не было, тела так и не нашли. Убил его хозяин или только пришиб, неясно. Заканчивается текст жуткой фантазией рассказчика:
«Укаченные ездою, все спали прекрасно, только мне все снился солдатик, о котором говорили с вечера.
Ползет будто он к лесу, а голова у него совсем мертвая, зеленая, глаза выперло, губы синие, и язык прикушен между зубов, из носа и из глаз сочится кровь; язык тоже в крови, а за сапожонком ножик в самодельной ручке, обвитой старой проволочкой, кипарисный киевский крестик да в маленькой тряпочке землицы щепотка. Должно быть, занес он ту земельку издалека, с родной стороны, где старуха мать с отцом ждут сына на побывочку, а может быть, и молодая жена тоже ждет, либо вешается с казаками, или уж на порах у бабки сидит.
Ждите, друзья, ждите»
.
В один абзац Лесков уместил целый мир, в котором соединились и сострадание рассказчика к солдатику, и вполне писательская внимательность к мелочам, и гоголевская Диканька, и стилизация под солдатскую речь, и злое отчаяние – до дома этому путнику не добраться. Вот она – мрачная жуть настоящей русской народной жизни.
И «Разбойник», и «В тарантасе», опубликованные в «Северной пчеле», четко обозначают вектор интересов раннего Лескова: он исследует сознание простого русского человека, пределы его фобий, страхов, особенности мировоззрения. Не идеализирует, не высмеивает, не презирает, только наблюдает и слушает – зорко, чутко.
В ряду самых ранних беллетристических сочинений Лескова выделяется рассказ «Погасшее дело», опубликованный в артельном журнале «Век»
. Хронологически это самый первый, законченный и полноценный опыт Лескова в прозе. Именно этот рассказ обнаруживает: сочинитель задиристых заметок, имевший все шансы вырасти в еще одного публициста средней руки, несчастливый муж, неумелый отец, не слишком верный товарищ внезапно оказался писателем большого дара с неповторимым голосом и оригинальной темой. Лесков как будто и сам сознавал, что вступает в новый этап литературного пути: именно «Погасшее дело» он впервые подписал псевдонимом «М. Стебницкий» и после этого использовал его регулярно вплоть до 1872 года[37 - Другие подписи и псевдонимы Лескова – «Фрейшиц», «В. Пересветов», «Николай Понукалов», «Николай Горохов», «Кто-то», «Дм. М-ев», «Н.», «Член общества», «Псаломщик», «Свящ. П. Касторский», «Дивьянк», «М. П.», «Б. Протозанов», «Николай-ов», «Н. Л.», «Н. Л.-в», «Любитель старины», «Проезжий», «Любитель часов», «N. L.», «Автор заметки в № 82», «Л.» (см.: Лесков А. Н. Указ. соч. Т. 1.С. 129).]. Происхождение псевдонима не совсем ясно; А. Н. Лесков связывает его с именем любимого орловского столоначальника отца Иллариона Матвеевича Сребницкого, библиограф произведений Лескова П. В. Быков – со словом «степь»
. Сам автор объяснений не оставил.
Путь от публицистической заметки, даже длинного журналистского расследования, каким, по сути, были «Очерки винокуренной промышленности», к художественной прозе неблизкий. Лесков проделал его, опубликовав три рассказа на границе художественной и документальной прозы.
В «Погасшем деле» он рассказывает анекдот, как мужики одного дальнего села, борясь с засухой, по совету прохожего «грамотея» выкопали из могилы труп пьяницы-пономаря и выбросили его за церковную ограду, после чего дождь – «теплый, частый, благодатный» – полил как из ведра и шел двое суток, да так обильно, что водные потоки унесли мертвое тело в неведомом направлении. Мужики сначала приходили советоваться к священнику (тот, разумеется, им объяснил, что не надо выкапывать мертвых), а теперь явились покаяться, что его не послушались. Батюшка отправился в губернский город хлопотать, чтобы дело о вскрытии могилы и исчезновении покойника замяли. Сначала он попытался поговорить с секретарем консистории, но тот оказался недоступен; затем побывал у помещика, который и уладил дело, повелев только собрать с мужиков тысячу рублей, якобы отданную нужным людям за успешное разрешение казуса.
Спустя семь лет, в 1869-м, для издания «Рассказы Стебницкого» Лесков переименовал «Погасшее дело» в «Засуху» и многое переписал; в результате игривый анекдот о реальном закрытом юридическом деле превратился в рассказ с глубоким и страшноватым посылом.
Сравнивая две редакции текста, можно увидеть процесс превращения публициста и репортера в писателя.
В первом варианте у рассказа был эпиграф – пословица «Быль – не укор», придававшая тексту задора; во втором, более драматичном, Лесков эпиграф снял. Исчез и подзаголовок «Из записок моего деда», возможно, бывший не литературной виньеткой, а правдивой ссылкой. Речь шла о деде по матери Петре Сергеевиче Алферьеве: как сообщал Лесков в примечаниях к очерку «Борьба за преобладание (1820–1840)», тот вел «ежедневные записи всего, по его мнению, замечательного», в которых встречаются «любопытные рассказы»
. Эти бы записки почитать! Но судьба их неведома. Петр Сергеевич был, как мы помним, управляющим селом Гороховом, в котором появился на свет его внук, и немало сил положил на сражения с мужицкой верой в порчу, сглаз и колдунов
.
И всё же во втором варианте перед нами не просто жутковатая история о дикости мужиков, силе языческих верований в русском народе, взяточничестве консисторщиков и высокомерии помещика – для высказывания об этом достало бы ресурсов публицистического жанра. «Засуха» – полноценный художественный рассказ с главным героем и тонко выписанными типажами: «серый мужичонка в рваном кафтанишке» – «олицетворение обдерганного крестьянского мира»; седой старик «с простодушным выражением лица», поехавший в город вместе с приходским священником; вальяжный брезгливый барин, презирающий и собственных крестьян, и сельского попика; остающийся за кадром грозный секретарь консистории Афанасий Иванович, который «лише змея желтобрюхого». У него одно про всех угощение: «много не говорит, а за аксиосы да об стол мордою»
.
И главный герой – сельский священник, забитый, кроткий, глубоко сострадающий своим прихожанам, но не имеющий возможности развеять тьму их невежества. Это выглядит почти символично: в центре первого рассказа свежеиспеченного писателя оказался скромный батюшка, представитель сословия, внимательным и проникновенным портретистом которого и станет Лесков. Польская исследовательница Марта Лукашевич указывает, что это был первый рассказ в русской литературе со священником в роли главного героя – раньше беллетристы интересовались скорее семинаристами и их бытом
. Впрочем, с середины 1860-х годов ситуация изменилась, и священники всё чаще появлялись в изящной словесности[38 - См.: «Озерской приход» Н. Ф. Бунакова (1863), «Ставленник» Ф. М. Решетникова (1864), «На погосте» – первая часть романа «Перед рассветом» Н. А. Благовещенского (1865), «Семейство Снежиных» В. А. Райского (1871), «Жизнь сельского священника» Ф. В. Ливанова (1877), «Велено приискивать» Г. И. Недетовского (1877), «Господа депутаты» А. И. Краснопольского (1878) и др.], что и понятно: русскую литературу создавали теперь сыновья иереев и дьяконов.
Священник в рассказе Лескова, очевидно, был списан с реального, уже известного нам отца Алексея Львова из села Собакина, который венчал чету Лесковых, крестил их сына, будущего писателя, и потом не раз еще появлялся на страницах его сочинений
. В первом варианте рассказа – «Погасшем деле» – он выведен под своим именем, во втором переименован в Илиодора.
Отец Илиодор – посредник между крестьянским «миром», помещиком и также официальной Церковью, но представляет всё же интересы крестьян: два дня едет в своей неуклюжей тряской тележке в далекий губернский город, чтобы заступиться за мужиков; ласково утешает и дворовых девушек, набранных в городской барский дом из того села, где он служит, и двоих своих сыновей, которые учатся здесь же в семинарии. В конце концов отец Илиодор спасает мужиков от каторги.
Один из опорных эпизодов рассказа – мимолетная встреча героя с сыновьями: грамматиком (второклассником) и ритором (четвероклассником).
«Домой он вернулся поздненько, погладил белокурую голову спящего сына, грамматика, и поговорил со старшим, ритором, об отце ректоре, о задачках, разрядах и тому подобных ученых вопросах… Каганец погасили, и в комнате всё стихло, только за досчатою перегородкою два семинариста долго за полночь бубнили вслух: один отчетисто, с сознанием своего собственного достоинства и достоинства произносимых слов, вырубал: “Homo improbus aliquando dolenter flagieiorum suorum recordabitur”[39 - Дурной человек когда-нибудь с прискорбием будет вспоминать свой бесчестный поступок (лат.).], а другой заливчато зубрил: “Полатини Homo, человек, сие звучит энергично, твердо, но грубо; а по-французски человек л’ом — это мягко, гибко и нежно”.
Отец Илиодор всё это слушал, слушал и задремал, убаюкиваемый тихим, как бы перепелиным, воркотанием того же семинариста, заучивавшего на сон грядущий: батю бато — бить палкою; батю бато — бить палкою; батю бато — бить палкою»
.
Возможно, Лесков здесь еще и каламбурит – получается, что батю бьют.
Правда, неясно, спит ли грамматик, чью белокурую голову погладил отец, или зубрит латынь. А может, он нарочно проснулся, чтобы повторить урок? Положим, что так. Но важнее другое: оба мальчика заучивают непонятную абракадабру, никак не связанную ни с их нынешней, бурсацкой, ни с будущей пастырской жизнью, да даже и к латыни имеющую отдаленное отношение.
Форма «батю бато», вероятно, отсылает к латинскому глаголу battuo — бить, избивать. Семинарист явно заучивает основные формы этого глагола, но в загадочном порядке и с искажениями: «батю» – это, возможно, форма прошедшего времени bat(t)ui и означает «я избил», bat(t)uo — настоящее время: «я избиваю»[40 - Благодарю за консультацию Милу Назырову.]. Но в таком порядке спряжения глаголов не учат. Можно, конечно, предположить, что Лесков к тому времени, когда писал рассказ, подзабыл гимназические уроки. Но как раз с латынью дела у Николая обстояли не так уж плохо – в начале гимназического учения он получал «четверки»
, а в экзаменационной ведомости, составленной летом 1846 года, когда он, не переведенный в четвертый класс, покидал гимназию, по латинскому языку у него стояла «тройка», тогда как по алгебре – «единица», по немецкому и геометрии – «двойка»
.
Если предположить, что латынь Лесков знал прилично, то форма «батю бато», то есть «избивал избиваю», использована им в рассказе совершенно сознательно. Смысл этого соединения прошедшего и настоящего времени прост и печален: избиению нет конца. Человека (Homo) в России били и бьют. Для усиления эффекта Лесков не только трижды устами гимназиста повторяет эту формулу, но и добавляет ей выразительности, переводя ее как «бить палкою», хотя в значении глагола batuere никакой палки нет – это просто «бить». Возможно, повлияло тут и французское «baton» («палка»), но Лескову эта палка необходима – с ней битье из абстрактного слова делается конкретным действием, она усиливает ощущение неравенства: это уже не просто драка, в которой участники колотят друг друга на равных, а избиение.
Так сквозь мимолетную сцену проступает ключевая для Лескова тема человеческого достоинства, попираемого в России всегда и везде. Латынь внезапно оказывается языком описания российского бытия.
И если один семинарист – очевидно, тот, что помладше, – еще готов наполняться важностью от величавой загадочности латинских выражений, другому, долбящему латынь четвертый год, похоже, уже всё равно. Слова, которые повторяют мальчики, делят мир на два полюса: грубый, где человека «бьют палкой», энергично и твердо, и нежный, где человек может себе позволить быть мягким и гибким.
Последнее возможно лишь в недоступном мире французского языка и европейских просветительских ценностей. Помещик «с розовыми ногтями» в беседе с отцом Илиодором, конечно, недаром упоминает двух знаменитых французских священнослужителей XVII века: «Еще бы, загнали попа в село без гроша, без книги, да проповедника из него, Фенелона или Бурдалу требовать». Франсуа Фенелон – просветитель и воспитатель наследника престола, внука короля Людовика XIV, автор «Приключений Телемака», авантюрного и одновременно просветительского романа о том, как мудрый государь должен управлять своим народом и страной. Луи Бурдалу – один из самых знаменитых французских ораторов XVII столетия, прозванный «королем проповедников и проповедником королей». Тот же помещик из рассказа Лескова говорит, что пастор у немцев и англичан – «это человек, это член общества». Там он пастырь, а в России, как остроумно замечает отец Илиодор, пастух: «Вы изволите говорить, что не пастыри-то, так я к этому: пастухи, говорю, сельская бедность… в полевом ничтожестве… пастухи…»
Но не так прост и наш «пастух». Засыпая под бубнеж сыновей, он видит во сне семь тучных и семь тощих коров и смущается, что «сон не по чину»: в Книге Бытия подобный сон видит египетский фараон, а праведный Иосиф толкует его как предсказание грядущих семи лет изобилия и семи лет голода (Быт. 41:1—35). Погружая героя в сон, пронизанный библейской символикой, Лесков, возможно, намекает на его праведность и богоизбранность, хотя сам отец Илиодор ощущает только свое недостоинство.
Второе видение посетило отца Илиодора, когда он в тележке отправился домой, после того как старик-крестьянин сообщил ему: мужики не просто вынули тело пономаря из могилы, но и из содранного с трупа сала сделали свечку, зажгли – тут и полил дождь.
«Телеман-сорт, “корабль, погибающий в волнах”, припоминает отец Илиодор и сейчас же впадает в раздумье: что это, однако, такое телеман, телеман… телеман-сорт, где он слышал это французское слово?.. Ах, какая досада: ни за что не вспомнишь! Семинарист ли это учил, или это он сам знал прежде? Да, это он сам знал: вот оно что! – он видел печать, на которой был вырезан корабль на волнах и над ним надпись, которую он вычитал и перевел себе таким образом: телеман-сорт – это “корабль, погибающий в волнах”.
Отец Илиодор заснул и, ныряя по кочкам, воображает самого себя кораблем, погибающим в волнах. И как отец Илиодор ни хочет спастись, как он ни старается выбиться – никак не выбьется: за ноги его сцапал и тянет тяжелый, как тяга земная, мучинко с разорванным воротом, а на макушке сидит давешний королевское еруслание и пихает ему в рот красную пробку.
– Вот это, – говорит королевское еруслание, – инструмент, чтобы ты, идучи ко дну, вслух отходной себе не читал»