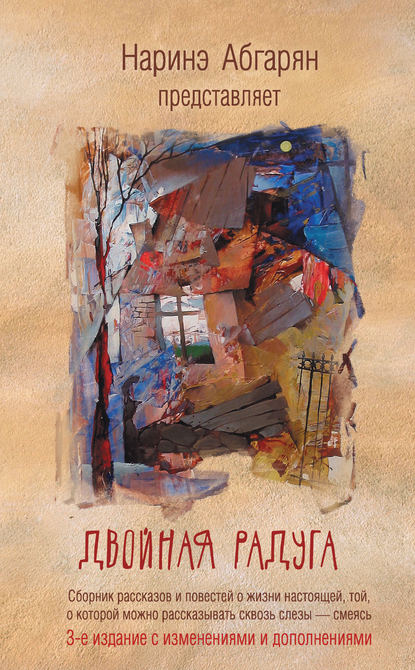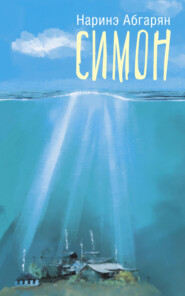По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Двойная радуга (сборник)
Автор
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На кухне Валентина Алексеевна привычным движением переставляет кастрюлю соседки со своей части плиты, тяжело вздыхает и, кряхтя, лезет на табуретку. Банка с гречкой стоит всегда на самой высокой полке шкафчика, чтобы никто из соседей не покусился на продукт.
Спички, газ, шорох крупы, постукивающей об эмалированные стенки под натиском воды из-под крана, тихий шорох стрелок настенных часов, бульканье кипящей воды, запах каши.
С тех пор как умер Владик, сытный, резкий запах доходящей до готовности гречневой каши с сильной нотой жареного лука – единственное, что примиряет ее с окружающим миром.
Валентина Алексеевна опирается ладонями о подоконник и смотрит долго-долго в узкий колодец двора, невидящим взглядом очерчивая кривые скаты крыш, темные прямоугольники черновых подъездов, кошачий шабаш на крыше помойки, трогает указательным пальцем холодное стекло.
Потом вдруг вспоминает, что бабушка, царствие ей небесное, всем пирожным в жизни предпочитала гречку – так сильна была память о первом послеблокадном продукте – горсти гречневой каши, сваренной второпях и жадно съеденной почти сырой. С тех пор она так и любила есть гречку – недоваренное зерно, рассыпающееся на крупинки в тарелке.
«Вот гены-то что делают, – думает Валентина Алексеевна. – Владик ведь тоже любил гречку».
* * *
Когда Кира с Кириллом приняли решение уезжать из Москвы, сомнений не было почти никаких – они оба страстно полюбили Питер, каждый по собственным соображениям.
Кирилл – за первое впечатление ленивого муравейника, Кира – за старый эрмитажный альбом, найденный на родительских книжных полках. С желтых страниц пронзительно и печально смотрели миндалевидные глаза Мадонны, мумии протягивали свои высохшие за тысячелетия дары, а веселый арапчонок у царственной юбки как будто подпрыгивал на месте, помахивая каменной ручкой, – скорее, скорее, Кира, приезжай, мы будем катать вместе золотые яблоки по коридору и дразнить дворцового истопника.
«Скоро, милый, – думала Кира, нежно поглаживая расслаивающийся картон корешка альбома. – Скоро увидимся».
Вера не поехала на вокзал – она в принципе никуда не выходила из квартиры, не считая попыток что-то заработать на своем арахнином искусстве, поэтому в скорбном молчании просто вручила Кире «заветный мешочек» с наказом: «Шей все, что видишь. Тогда будешь видеть».
И Кира принялась шить в первую же неделю жизни в «Водном мире», как называл этот каменный ковчег Кирилл.
«Понимаешь, Кира, – говорил он, – куда ни пойдешь – везде вода и корюшка. Такое ощущение, что не полустоличный вертеп, а какой-то одновременно бешеный и тихий приморский городишко, расчерченный на квадраты и поделенный на территории. В одной – рыбу ловят, во второй – продают, в третьей ходят в бары, и везде вода, везде с тяжким грохотом подходит к изголовью. Макондо какое-то».
Кира понимала, что он имеет в виду. Ей нравилась эта ленивая поэма, звонкий городской романс про карету и церковь – с поправкой на то, что у местных церквей все кареты пахли кальвадосом и жареной корюшкой, и управляли ими либо светловолосые вальяжные попы, похожие на викингов, либо веселые чернявые парни, совсем-совсем не понимающие литературную выправку ее речи. Или русский язык в принципе.
Кира ходила по городу, трогала стены и сразу отчаянно, до тонкой дрожи в коленях полюбила Петроградскую сторону со всеми ее закоулками, пустыми дворами с развешанным между турниками бельем, остатками нетронутого модерна и провалами во времени и пространстве. На Петроградской стороне особенно остро ощущались стыки трех городов: Петербурга, Петрограда и Ленинграда.
Ей казалось, что это веселая игра: стоя на перекрестке трех улиц, попробовать угадать. Из-за какого угла выезжает экипаж, из-за какого угла выходит шеренга суровых матросов в черных бушлатах, расцвеченных алыми пятнами гвоздик и бантов («В белом венчике из роз»), думала Кира, а из-за какого угла внезапно выскочит высокий студент в широкоплечем пиджаке, размахивающий стопкой тетрадей. Никто не выезжал, не выскакивал, не выходил чеканным шагом, неся на груди смерть, заключенную в алом цветке, но ей было достаточно памяти и желания видеть.
Хотелось одновременно весь город, и Кира даже испытывала неловкий страх, что Кирилл может догадаться о том, как сильно ей хочется впитать в себя каждую мелкую детальку, каждую неровность стены, каждую трещинку на асфальте.
«Жаль, Вера не видит, – думала иногда Кира, нежно поглаживая оттертые до золотого сияния морды львов на набережной у Академии художеств. – Ей бы понравилось».
Но тихая Вера, заключенная в туманные уже, прозрачные рамки Авалона Бульварного кольца, бледнела, стиралась, и уже ничего было Кире не вспомнить, кроме вытянутых в темноте пальцев с тонкой паутиной кружев и томного, сырого, тополиного, выматывающего запаха московских сумерек.
* * *
Валентина Алексеевна ставит тарелку в медовое пятно света от абажура над круглым столом, разглаживает ладонями края скатерти со своей стороны, садится.
В глубине квартиры слышно, как гремит посудой соседка Ильмира, громогласная татарка, симметричная и разноцветная, как школьный глобус. Ильмира жарит яичницу, одновременно управляя нетрезвым мужем путем голосовых модуляций – от самого высокого к самому громкому.
«Надо же, – неприязненно думает Валентина Алексеевна, – две октавы, небось. Дал же Господь рогов бодливой корове».
Во дворе компания подростков орет пьяными голосами какую-то ахинею про алюминиевые огурцы, кирпичные стены, районы и кварталы и прочую ересь. Парни гогочут и гремят бутылками, девки визжат, и где-то за гаражами кричат кошки почти такими же неприлично хриплыми голосами, что и девки.
«Надо же, – думает Валентина Алексеевна, – потеплело, выползли. Совсем людей не стесняются».
Кусочек сливочного масла растекается по краю тарелки янтарным ручейком. Она берет ложку и начинает медленно есть, пристально глядя поверх очков на шеренгу черно-белых фотографий за стеклом горки. «Горка, – думает Валентина Алексеевна, – бабушка».
На фотографиях троится Владик, дрожит и расплывается за слезами лицо невыросшего мужчины со светлыми ресницами и взглядом доверчивого щенка.
Постукивает о тарелку мельхиоровая ложка, поскрипывает паркет, падают пяльцы с неоконченным шитьем с кресла.
* * *
– Эй, послушайте! Если кому-нибудь нужно.
Кира подпрыгивает и отшатывается от неожиданности.
Буквально вчера они с Кириллом сидели на причале около Дворцовой площади и, шутя, бодали друг друга лбами, как телята. Кто кого перебодает, того любимый поэт и лучше.
У Киры всегда был Маяковский, у Кирилла Есенин. Кирилл терпеть не мог Маяковского за «снобское пожирание жизни деревянной лопаточкой», а Кира терпеть не могла Есенина за «тошнотворный пафос». Кирилл оперировал обидным сочетанием «сухая злобная филфачка» и тут же получал его обратно – «Ты еще не забыл, что мы однокурсники?..»
Серьезный мальчик с глазами цвета корицы под скульптурной линией бровей, сведенных в грозную прямую, внимательно смотрит, как ей кажется, ровно в середину Кириных мыслей, хорошенько упрятанных под белой косой челкой.
– Мальчик, – Кира сразу же понимает, что впервые за долгое время говорит вслух с кем-то, кроме Кирилла, – мальчик, ты чего-то хочешь?
– Если это кому-нибудь нужно, то я не буду брать, а если не нужно, то я заберу, – говорит мальчик и указывает пальцем на скамейку, на которой лежит Кирина сумка с вышивальными принадлежностями и термосом.
Под скамейкой лежит велосипедное колесо с погнутыми спицами.
Кира начинает смеяться, громче и громче, пока хохот не побеждает окончательно природную стеснительность.
– Забери, конечно, мне это не нужно, – говорит она. – Шоколадку хочешь?
– Нет, спасибо. Но вот он будет, – говорит мальчик и стягивает с плеча лямку рюкзака, из которого торчит огромная кошачья башка. Башка увенчана рваными ушами и двумя довольно злыми глазами, которые тут же впиваются в Киру взглядом – снова, как ей кажется, ровно в середину мыслей, минуя лицо и даже невнятную преграду в виде черепной коробки.
– О господи, что за зверь такой у тебя там сидит? Кошечка? – улыбается она и тянется погладить круглую башку. Башка бешено вращает глазами и шипит, как будто намекая, что лишние конечности на поздний завтрак ей кажутся вполне заслуженным питанием. «Сама ты кошечка», практически слышит Кира внутри собственной головы и инстинктивно отдергивает руку.
– Не, это кот, – пыхтит мальчик и тянет колесо из-под скамейки. – А ты не могла бы подвинуть ноги? Спицами зацепилось.
Кира поджимает ноги, мальчик упирается коленом в скамейку и с коротким самурайским вскриком выдергивает колесо на волю.
– Это вчера Максимов угнал велосипед у дворника, я так думаю, прыгал по бордюру и сломал его. Руль за гаражами лежит. Я починю, отдам обратно. А что ты делаешь?
– Вышиваю. Видишь? Это дом вон тот, это ворота, это сирень. Это «мерседес», а это качели.
– Красиво. То есть другие люди красками рисуют, а ты вышиваешь? А зачем?
– Знаешь, мне всегда кажется, что если пришить мир нитками, то он никуда не денется. Это такое колдовство у меня – пришивать все, что видишь, к себе. Тогда оно навсегда останется с тобой. Хочешь, давай я буду вышивать вас с котом и потом отдам тебе картинку? Тебя как зовут? Меня Кира.
– Меня зовут Артемий, а его Дуэнде.
Кот выбирается из рюкзака и лезет между ними, аккуратно переступая по Кириным коленям мягкими лапами. Мальчик и кот смотрят на длинные Кирины пальцы с тонкой серебристой уклейкой иглы между волнами ниточек. Идущий мимо мужчина роняет пакет, в пакете разбиваются яйца и растекаются бледно-желтой лужицей по асфальту.
«Смерть в яйце, яйцо в ларце, в яйце кольцо, в кольце игла. В той игле смерть Кощеева», – внезапно думает Кира и выбирает белую нитку, чтобы вышить блик солнечного зайчика в кошачьем зрачке.
Спички, газ, шорох крупы, постукивающей об эмалированные стенки под натиском воды из-под крана, тихий шорох стрелок настенных часов, бульканье кипящей воды, запах каши.
С тех пор как умер Владик, сытный, резкий запах доходящей до готовности гречневой каши с сильной нотой жареного лука – единственное, что примиряет ее с окружающим миром.
Валентина Алексеевна опирается ладонями о подоконник и смотрит долго-долго в узкий колодец двора, невидящим взглядом очерчивая кривые скаты крыш, темные прямоугольники черновых подъездов, кошачий шабаш на крыше помойки, трогает указательным пальцем холодное стекло.
Потом вдруг вспоминает, что бабушка, царствие ей небесное, всем пирожным в жизни предпочитала гречку – так сильна была память о первом послеблокадном продукте – горсти гречневой каши, сваренной второпях и жадно съеденной почти сырой. С тех пор она так и любила есть гречку – недоваренное зерно, рассыпающееся на крупинки в тарелке.
«Вот гены-то что делают, – думает Валентина Алексеевна. – Владик ведь тоже любил гречку».
* * *
Когда Кира с Кириллом приняли решение уезжать из Москвы, сомнений не было почти никаких – они оба страстно полюбили Питер, каждый по собственным соображениям.
Кирилл – за первое впечатление ленивого муравейника, Кира – за старый эрмитажный альбом, найденный на родительских книжных полках. С желтых страниц пронзительно и печально смотрели миндалевидные глаза Мадонны, мумии протягивали свои высохшие за тысячелетия дары, а веселый арапчонок у царственной юбки как будто подпрыгивал на месте, помахивая каменной ручкой, – скорее, скорее, Кира, приезжай, мы будем катать вместе золотые яблоки по коридору и дразнить дворцового истопника.
«Скоро, милый, – думала Кира, нежно поглаживая расслаивающийся картон корешка альбома. – Скоро увидимся».
Вера не поехала на вокзал – она в принципе никуда не выходила из квартиры, не считая попыток что-то заработать на своем арахнином искусстве, поэтому в скорбном молчании просто вручила Кире «заветный мешочек» с наказом: «Шей все, что видишь. Тогда будешь видеть».
И Кира принялась шить в первую же неделю жизни в «Водном мире», как называл этот каменный ковчег Кирилл.
«Понимаешь, Кира, – говорил он, – куда ни пойдешь – везде вода и корюшка. Такое ощущение, что не полустоличный вертеп, а какой-то одновременно бешеный и тихий приморский городишко, расчерченный на квадраты и поделенный на территории. В одной – рыбу ловят, во второй – продают, в третьей ходят в бары, и везде вода, везде с тяжким грохотом подходит к изголовью. Макондо какое-то».
Кира понимала, что он имеет в виду. Ей нравилась эта ленивая поэма, звонкий городской романс про карету и церковь – с поправкой на то, что у местных церквей все кареты пахли кальвадосом и жареной корюшкой, и управляли ими либо светловолосые вальяжные попы, похожие на викингов, либо веселые чернявые парни, совсем-совсем не понимающие литературную выправку ее речи. Или русский язык в принципе.
Кира ходила по городу, трогала стены и сразу отчаянно, до тонкой дрожи в коленях полюбила Петроградскую сторону со всеми ее закоулками, пустыми дворами с развешанным между турниками бельем, остатками нетронутого модерна и провалами во времени и пространстве. На Петроградской стороне особенно остро ощущались стыки трех городов: Петербурга, Петрограда и Ленинграда.
Ей казалось, что это веселая игра: стоя на перекрестке трех улиц, попробовать угадать. Из-за какого угла выезжает экипаж, из-за какого угла выходит шеренга суровых матросов в черных бушлатах, расцвеченных алыми пятнами гвоздик и бантов («В белом венчике из роз»), думала Кира, а из-за какого угла внезапно выскочит высокий студент в широкоплечем пиджаке, размахивающий стопкой тетрадей. Никто не выезжал, не выскакивал, не выходил чеканным шагом, неся на груди смерть, заключенную в алом цветке, но ей было достаточно памяти и желания видеть.
Хотелось одновременно весь город, и Кира даже испытывала неловкий страх, что Кирилл может догадаться о том, как сильно ей хочется впитать в себя каждую мелкую детальку, каждую неровность стены, каждую трещинку на асфальте.
«Жаль, Вера не видит, – думала иногда Кира, нежно поглаживая оттертые до золотого сияния морды львов на набережной у Академии художеств. – Ей бы понравилось».
Но тихая Вера, заключенная в туманные уже, прозрачные рамки Авалона Бульварного кольца, бледнела, стиралась, и уже ничего было Кире не вспомнить, кроме вытянутых в темноте пальцев с тонкой паутиной кружев и томного, сырого, тополиного, выматывающего запаха московских сумерек.
* * *
Валентина Алексеевна ставит тарелку в медовое пятно света от абажура над круглым столом, разглаживает ладонями края скатерти со своей стороны, садится.
В глубине квартиры слышно, как гремит посудой соседка Ильмира, громогласная татарка, симметричная и разноцветная, как школьный глобус. Ильмира жарит яичницу, одновременно управляя нетрезвым мужем путем голосовых модуляций – от самого высокого к самому громкому.
«Надо же, – неприязненно думает Валентина Алексеевна, – две октавы, небось. Дал же Господь рогов бодливой корове».
Во дворе компания подростков орет пьяными голосами какую-то ахинею про алюминиевые огурцы, кирпичные стены, районы и кварталы и прочую ересь. Парни гогочут и гремят бутылками, девки визжат, и где-то за гаражами кричат кошки почти такими же неприлично хриплыми голосами, что и девки.
«Надо же, – думает Валентина Алексеевна, – потеплело, выползли. Совсем людей не стесняются».
Кусочек сливочного масла растекается по краю тарелки янтарным ручейком. Она берет ложку и начинает медленно есть, пристально глядя поверх очков на шеренгу черно-белых фотографий за стеклом горки. «Горка, – думает Валентина Алексеевна, – бабушка».
На фотографиях троится Владик, дрожит и расплывается за слезами лицо невыросшего мужчины со светлыми ресницами и взглядом доверчивого щенка.
Постукивает о тарелку мельхиоровая ложка, поскрипывает паркет, падают пяльцы с неоконченным шитьем с кресла.
* * *
– Эй, послушайте! Если кому-нибудь нужно.
Кира подпрыгивает и отшатывается от неожиданности.
Буквально вчера они с Кириллом сидели на причале около Дворцовой площади и, шутя, бодали друг друга лбами, как телята. Кто кого перебодает, того любимый поэт и лучше.
У Киры всегда был Маяковский, у Кирилла Есенин. Кирилл терпеть не мог Маяковского за «снобское пожирание жизни деревянной лопаточкой», а Кира терпеть не могла Есенина за «тошнотворный пафос». Кирилл оперировал обидным сочетанием «сухая злобная филфачка» и тут же получал его обратно – «Ты еще не забыл, что мы однокурсники?..»
Серьезный мальчик с глазами цвета корицы под скульптурной линией бровей, сведенных в грозную прямую, внимательно смотрит, как ей кажется, ровно в середину Кириных мыслей, хорошенько упрятанных под белой косой челкой.
– Мальчик, – Кира сразу же понимает, что впервые за долгое время говорит вслух с кем-то, кроме Кирилла, – мальчик, ты чего-то хочешь?
– Если это кому-нибудь нужно, то я не буду брать, а если не нужно, то я заберу, – говорит мальчик и указывает пальцем на скамейку, на которой лежит Кирина сумка с вышивальными принадлежностями и термосом.
Под скамейкой лежит велосипедное колесо с погнутыми спицами.
Кира начинает смеяться, громче и громче, пока хохот не побеждает окончательно природную стеснительность.
– Забери, конечно, мне это не нужно, – говорит она. – Шоколадку хочешь?
– Нет, спасибо. Но вот он будет, – говорит мальчик и стягивает с плеча лямку рюкзака, из которого торчит огромная кошачья башка. Башка увенчана рваными ушами и двумя довольно злыми глазами, которые тут же впиваются в Киру взглядом – снова, как ей кажется, ровно в середину мыслей, минуя лицо и даже невнятную преграду в виде черепной коробки.
– О господи, что за зверь такой у тебя там сидит? Кошечка? – улыбается она и тянется погладить круглую башку. Башка бешено вращает глазами и шипит, как будто намекая, что лишние конечности на поздний завтрак ей кажутся вполне заслуженным питанием. «Сама ты кошечка», практически слышит Кира внутри собственной головы и инстинктивно отдергивает руку.
– Не, это кот, – пыхтит мальчик и тянет колесо из-под скамейки. – А ты не могла бы подвинуть ноги? Спицами зацепилось.
Кира поджимает ноги, мальчик упирается коленом в скамейку и с коротким самурайским вскриком выдергивает колесо на волю.
– Это вчера Максимов угнал велосипед у дворника, я так думаю, прыгал по бордюру и сломал его. Руль за гаражами лежит. Я починю, отдам обратно. А что ты делаешь?
– Вышиваю. Видишь? Это дом вон тот, это ворота, это сирень. Это «мерседес», а это качели.
– Красиво. То есть другие люди красками рисуют, а ты вышиваешь? А зачем?
– Знаешь, мне всегда кажется, что если пришить мир нитками, то он никуда не денется. Это такое колдовство у меня – пришивать все, что видишь, к себе. Тогда оно навсегда останется с тобой. Хочешь, давай я буду вышивать вас с котом и потом отдам тебе картинку? Тебя как зовут? Меня Кира.
– Меня зовут Артемий, а его Дуэнде.
Кот выбирается из рюкзака и лезет между ними, аккуратно переступая по Кириным коленям мягкими лапами. Мальчик и кот смотрят на длинные Кирины пальцы с тонкой серебристой уклейкой иглы между волнами ниточек. Идущий мимо мужчина роняет пакет, в пакете разбиваются яйца и растекаются бледно-желтой лужицей по асфальту.
«Смерть в яйце, яйцо в ларце, в яйце кольцо, в кольце игла. В той игле смерть Кощеева», – внезапно думает Кира и выбирает белую нитку, чтобы вышить блик солнечного зайчика в кошачьем зрачке.