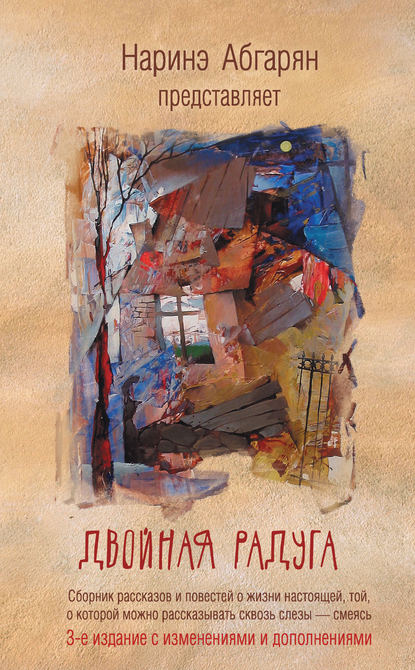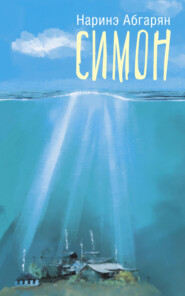По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Двойная радуга (сборник)
Автор
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Валентина Алексеевна прячет под стопку книг старый плюшевый альбом с фотографиями и, тяжело переступая отекшими по теплой погоде ногами, идет к платяному шкафу. Достает шаль, укутывает поясницу – как бы тепло ни было, а артрит никто не отменял. В уголке пустой верхней полки сиротливо притаились скомканные ярко-красные джинсы. Владику бы они понравились – он вообще любил красный цвет. С тех пор как надел пионерский галстук. Все свои модельки красил красным.
Она смахивает в тарелку со скатерти одинокую гречневую крупинку и думает о том, что еда – это очень важно. Особенно, если вместе. Ритуал такой.
* * *
– Кира!.. Кира!..
Кирилл несется через двор по лужам, подпрыгивая на носках своих неразменных черных «конверсов», привезенных мамой из Америки. Никогда не снимает эти кеды – ни зимой, ни летом, ни в жару, ни в холод. Зимой – шерстяные носки и кеды, летом – японские носки с пальцами и кеды. Кира сделать с этим ничего не может – ни «адидасы», ни умеренный «найк», ни клевый ноунейм из шикарных питерских секондов, которые Кира покупает, не работают с Кириллом и месяцами пылятся по углам в пакетах, не вызывая никакого интереса.
– Кира! Я взял у Дани мопед! Давай поедем кататься по набережной? Ты наденешь платок и очки, как француженка, и где-нибудь в районе Адмиралтейства я куплю бутылку неприлично дорогого шампанского, посажу тебя на колени, и мы будем смотреть на огни на реке.
«И на корюшку, – думает Кира. – Ненавижу корюшку».
Практически у каждого дома по улице выставлены разные матрасы на выброс. Большие и маленькие, односпальные, двуспальные, от диванов, от раскладушек, в разной степени убитости. Прожженные, в пятнах соуса и свечного парафина, масляной краски и других пятнах, не вызывающих сомнений.
«Весна, – думает Кира. – Вес-на. Люди выбросили матрасы и делают отныне все свои дела на полу».
Почему-то ей представляется светлый деревянный пол из неструганых досок, похожий на яхтенную палубу. На этом полу находится куча мелких-мелких людей в ярких сине-белых полосатых тельняшках, и каждый очень занят своим делом. Кто-то варит борщ. Кто-то любит друг друга. Кто-то детей укачивает.
Игрушечная белая «Веспа» несется по набережной.
Огни осыпаются в реку, и где-то слышен хриплый, как горькая джазовая нота, гудок парохода, идущего под разведенным мостом.
* * *
Кира сидит на подоконнике и плачет. Весь день идет дождь, потому Кира и плачет – никогда не известно, кто из них двоих моделирует это явление. Когда Кира плачет, погода всегда портится, но Кира ли включает дождевую кнопку, город ли ее включает – они оба так и не научились разбирать.
Лохматый Кирилл, запустив пятерню в русую бороду, задумчиво рисует на бумажной салфетке Кирин птичий профиль, острый силуэт: короткие растрепанные волосы на затылке, делающие ее похожей на нахохленного воробья, острые поднятые плечи, длинные ноги, подтянутые к подбородку коленями.
С тихим скрипом открывается дверь, и в комнату вплывает Валентина Алексеевна, несущая кастрюлю с гречкой.
Густой запах наполняет собою все пространство – от выщербленного паркета до лепных ангелов на скругленных углах потолка, забивается в поры, в волосы, в нос.
Киру начинает мутить – нет никаких сил уже каждый день терпеть этот запах ритуальной каши для ушедшего Владика, вид этой мучительно прямой спины за круглым столом, этого взгляда и этого молчания. Чувствуя, как внутри нарастает скрученное в торнадо бешенство, она слетает, словно сухой лист, с подоконника и бросается к Кириллу.
– Я тебя умоляю, сделай что-нибудь, поговори с ней. Это же просто невозможно, в конце концов.
Кирилл флегматично пожимает плечами:
– О чем я с ней поговорю? Ты последний раз помнишь? Она с тобой о чем-то поговорила?
Валентина Алексеевна подходит к шкафу и тянется за красной тарелкой на верхней полке. Падает и разбивается чашка, Валентина Алексеевна идет на кухню за веником. Кира стоит у шкафа, обняв себя крест-накрест руками, и раскачивается из стороны в сторону.
– Я так больше не могу, Кирилл. Не могу. Не могу.
Валентина Алексеевна возвращается, аккуратно обметает осколки фарфора вокруг ее тапочек, старательно не задевая ног, и снова уходит на кухню, демонстративно прикрыв дверь. Кирилл подходит к Кире, берет ее на руки, сажает на подоконник, обнимает за плечи и крепко прижимает к груди, к мягкому теплу рубашки. Кира смотрит Кириллу в лицо, потом запускает тонкие длинные пальцы в бороду. Он садится рядом, и они долго смотрят во двор, где в полумраке у крыльца подъезда белеет маленькая «Веспа», похожая скорее на елочную игрушку, чем на машину с колесами.
Прямой спиной к ним, за круглым столом сидит Валентина Алексеевна.
* * *
– Алексевна! Алексевна! – Ильмира врывается на кухню, как маленький танк, не обремененный чувством такта. – Чо ты надумала?
– С чем, Ильмира Рашидовна? – надменно поднимает Валентина Алексеевна нарисованную графитовым карандашом бровь, помешивая ложкой в ковшике сублимированный порошок какао, разведенный соевым молоком.
– С вещами, говорю, чего надумала?!
– С какими вещами?
– Жильцов своих, которые на мопеде убились. С какими, она спрашивает. Ну, этих твоих, хипстеров. Мне одежда для Алки пригодится, может, отдашь? И потом, от них осталась техника какая, давай я отдам Сереге, он продаст получше. Тебе деньги, ему процент.
– Я подумаю, Ильмира Рашидовна. Подумаю, – говорит Валентина Алексеевна, встает на цыпочки и тянется к верхней полке кухонного шкафа.
Большая грудь болезненно упирается в угол полки, роста не хватает, но она упрямо тянет кончики пальцев к банке с гречкой.
Ильмира выжидающе смотрит на это, потом подходит, ставит рядом с Валентиной Алексеевной табурет.
– А все-таки знаешь, Алексевна, дикие они какие-то были, честное слово. Сидели все сами с собой, нет бы с людьми выйти поговорить. А эта дура малохольная вообще ходила с мебелью разговаривала. Дикие. Что сказать. Хипстеры.
* * *
Кира натягивает на нос ворот широкой кофты, зябко потирает ладони. Вздыхает и втыкает в полотно иглу, привычным движением накидывая сразу два стежка. В тишине комнаты тикают напольные часы. Охрипший, но все еще мелодичный репетир поет о милом Августине, все пройдет, все. Пахнет табаком. Клеем. Краской. Гречневой кашей.
На широком мраморном подоконнике сохнет маленькая красная модель самолета.
Анастасия Манакова
Был такой город
Предисловие
Когда не сможешь сознаться в том, что города – того, в котором жил когда-то, уже не существует, как не существует и тебя самого, и эта твоя прогулка не более чем фикция, мираж, сюрреалистическая картинка, на которой голубым раскрашено небо, а грязно-белым – дома, и радость твоя от того, что день этот непредвиденно хорош, – радость эта тоже не вполне настоящая – она вне рамок того, что называлось твоей жизнью, она за гранью, за пределами.
Города нет, как нет дороги, ведущей к дому, который никуда не сдвинулся со своего места, не сдвинулся, не сгинул, не обвалился, оседая этажами, перегруженными случайной, большей частью устаревшей мебелью, собранной в году этак семьдесят девятом в братской социалистической республике – ГДР или Чехословакии, – как нет, впрочем, и самой республики, а мебель наперекор всему похрустывает изношенными суставами.
Так и стоит, кренясь балконами, забитыми всякой всячиной, допустим, подборкой журнала «Юность», начиная с шестьдесят пятого, или пыльными новомирскими изданиями, а еще истончившейся газетной трухой, в которой свинец, продолжая испаряться, травит чахлые растения в неуклюжих горшках.
Велосипедный насос, растрепанный скрипичный смычок, чехлы неизвестного предназначения, ракетки для тенниса, бельевая веревка с многократно высушенным и трижды отсыревшим в полоску и блеклый горошек, горсть деревянных прищепок, справочник по машиностроению, конспекты, исписанные ученическим, со старательным нажимом в начале и легкомысленно-расплывающимся к концу.
Связки писем «от него к ней», «от нее к нему» – перетянутые резинкой, – их никто не читает, и страшно подумать, почти не пишет. Затянутая в полиэтилен вечнозеленая елка. Переложенные клочьями ваты, еще почти совсем целые игрушки. Избушка на курьих лапах. Космонавт с поднятой левой рукой. Шестипалая снежинка на длинной ноге.
Города нет, как нет и того, кто одним махом взлетал на пятый, кажется, пятый или все-таки четвертый, – сначала одним махом, потом с небольшими остановками между этажами, потом – медленно занося левую ногу над ступенькой, мужественно преодолевая третий пролет, – кошачий закуток останется таким же живописным и сегодня, – с картонкой, в которой живое и беззащитное требует тепла, и молока, и продолжения жизни, – тянется к свету, к слабой полоске, падающей из правого верхнего угла, где железная скоба, выкрашенная в неопределенно тусклый цвет, так и не закрывается, и не закроется никогда, и потому от холода сводит пальцы, – в уже неважно каком году, потому что года этого уже нет, как нет меня, его, ее, – нет причин и обстоятельств, и повода стоять в глубоком колодце двора, запрокинув голову, считать окна, в которых, возможно, еще теплится, горит, любит.
Бродить в темноте, разбрасывая спички, много спичек, мусоля пустой коробок, – пока где-то не залает собака или не забрезжит первая звезда, – как сладко прощаться навсегда, дышать в спину прозрением, безразличием, – выдыхая, отсекая, вырывая, – изношенную, ненужную, устаревшую – случайную, конечно же, случайную, благополучно погребенную под завалами.
Ее никто не искал. Никто не искал, не допытывался – вот город, шумит, сверкает огнями, витринами, штукатуркой, фасадом, – а в глубине двора качели поскрипывают жалобно, и дерево под окном.
Валентина Алексеевна прячет под стопку книг старый плюшевый альбом с фотографиями и, тяжело переступая отекшими по теплой погоде ногами, идет к платяному шкафу. Достает шаль, укутывает поясницу – как бы тепло ни было, а артрит никто не отменял. В уголке пустой верхней полки сиротливо притаились скомканные ярко-красные джинсы. Владику бы они понравились – он вообще любил красный цвет. С тех пор как надел пионерский галстук. Все свои модельки красил красным.
Она смахивает в тарелку со скатерти одинокую гречневую крупинку и думает о том, что еда – это очень важно. Особенно, если вместе. Ритуал такой.
* * *
– Кира!.. Кира!..
Кирилл несется через двор по лужам, подпрыгивая на носках своих неразменных черных «конверсов», привезенных мамой из Америки. Никогда не снимает эти кеды – ни зимой, ни летом, ни в жару, ни в холод. Зимой – шерстяные носки и кеды, летом – японские носки с пальцами и кеды. Кира сделать с этим ничего не может – ни «адидасы», ни умеренный «найк», ни клевый ноунейм из шикарных питерских секондов, которые Кира покупает, не работают с Кириллом и месяцами пылятся по углам в пакетах, не вызывая никакого интереса.
– Кира! Я взял у Дани мопед! Давай поедем кататься по набережной? Ты наденешь платок и очки, как француженка, и где-нибудь в районе Адмиралтейства я куплю бутылку неприлично дорогого шампанского, посажу тебя на колени, и мы будем смотреть на огни на реке.
«И на корюшку, – думает Кира. – Ненавижу корюшку».
Практически у каждого дома по улице выставлены разные матрасы на выброс. Большие и маленькие, односпальные, двуспальные, от диванов, от раскладушек, в разной степени убитости. Прожженные, в пятнах соуса и свечного парафина, масляной краски и других пятнах, не вызывающих сомнений.
«Весна, – думает Кира. – Вес-на. Люди выбросили матрасы и делают отныне все свои дела на полу».
Почему-то ей представляется светлый деревянный пол из неструганых досок, похожий на яхтенную палубу. На этом полу находится куча мелких-мелких людей в ярких сине-белых полосатых тельняшках, и каждый очень занят своим делом. Кто-то варит борщ. Кто-то любит друг друга. Кто-то детей укачивает.
Игрушечная белая «Веспа» несется по набережной.
Огни осыпаются в реку, и где-то слышен хриплый, как горькая джазовая нота, гудок парохода, идущего под разведенным мостом.
* * *
Кира сидит на подоконнике и плачет. Весь день идет дождь, потому Кира и плачет – никогда не известно, кто из них двоих моделирует это явление. Когда Кира плачет, погода всегда портится, но Кира ли включает дождевую кнопку, город ли ее включает – они оба так и не научились разбирать.
Лохматый Кирилл, запустив пятерню в русую бороду, задумчиво рисует на бумажной салфетке Кирин птичий профиль, острый силуэт: короткие растрепанные волосы на затылке, делающие ее похожей на нахохленного воробья, острые поднятые плечи, длинные ноги, подтянутые к подбородку коленями.
С тихим скрипом открывается дверь, и в комнату вплывает Валентина Алексеевна, несущая кастрюлю с гречкой.
Густой запах наполняет собою все пространство – от выщербленного паркета до лепных ангелов на скругленных углах потолка, забивается в поры, в волосы, в нос.
Киру начинает мутить – нет никаких сил уже каждый день терпеть этот запах ритуальной каши для ушедшего Владика, вид этой мучительно прямой спины за круглым столом, этого взгляда и этого молчания. Чувствуя, как внутри нарастает скрученное в торнадо бешенство, она слетает, словно сухой лист, с подоконника и бросается к Кириллу.
– Я тебя умоляю, сделай что-нибудь, поговори с ней. Это же просто невозможно, в конце концов.
Кирилл флегматично пожимает плечами:
– О чем я с ней поговорю? Ты последний раз помнишь? Она с тобой о чем-то поговорила?
Валентина Алексеевна подходит к шкафу и тянется за красной тарелкой на верхней полке. Падает и разбивается чашка, Валентина Алексеевна идет на кухню за веником. Кира стоит у шкафа, обняв себя крест-накрест руками, и раскачивается из стороны в сторону.
– Я так больше не могу, Кирилл. Не могу. Не могу.
Валентина Алексеевна возвращается, аккуратно обметает осколки фарфора вокруг ее тапочек, старательно не задевая ног, и снова уходит на кухню, демонстративно прикрыв дверь. Кирилл подходит к Кире, берет ее на руки, сажает на подоконник, обнимает за плечи и крепко прижимает к груди, к мягкому теплу рубашки. Кира смотрит Кириллу в лицо, потом запускает тонкие длинные пальцы в бороду. Он садится рядом, и они долго смотрят во двор, где в полумраке у крыльца подъезда белеет маленькая «Веспа», похожая скорее на елочную игрушку, чем на машину с колесами.
Прямой спиной к ним, за круглым столом сидит Валентина Алексеевна.
* * *
– Алексевна! Алексевна! – Ильмира врывается на кухню, как маленький танк, не обремененный чувством такта. – Чо ты надумала?
– С чем, Ильмира Рашидовна? – надменно поднимает Валентина Алексеевна нарисованную графитовым карандашом бровь, помешивая ложкой в ковшике сублимированный порошок какао, разведенный соевым молоком.
– С вещами, говорю, чего надумала?!
– С какими вещами?
– Жильцов своих, которые на мопеде убились. С какими, она спрашивает. Ну, этих твоих, хипстеров. Мне одежда для Алки пригодится, может, отдашь? И потом, от них осталась техника какая, давай я отдам Сереге, он продаст получше. Тебе деньги, ему процент.
– Я подумаю, Ильмира Рашидовна. Подумаю, – говорит Валентина Алексеевна, встает на цыпочки и тянется к верхней полке кухонного шкафа.
Большая грудь болезненно упирается в угол полки, роста не хватает, но она упрямо тянет кончики пальцев к банке с гречкой.
Ильмира выжидающе смотрит на это, потом подходит, ставит рядом с Валентиной Алексеевной табурет.
– А все-таки знаешь, Алексевна, дикие они какие-то были, честное слово. Сидели все сами с собой, нет бы с людьми выйти поговорить. А эта дура малохольная вообще ходила с мебелью разговаривала. Дикие. Что сказать. Хипстеры.
* * *
Кира натягивает на нос ворот широкой кофты, зябко потирает ладони. Вздыхает и втыкает в полотно иглу, привычным движением накидывая сразу два стежка. В тишине комнаты тикают напольные часы. Охрипший, но все еще мелодичный репетир поет о милом Августине, все пройдет, все. Пахнет табаком. Клеем. Краской. Гречневой кашей.
На широком мраморном подоконнике сохнет маленькая красная модель самолета.
Анастасия Манакова
Был такой город
Предисловие
Когда не сможешь сознаться в том, что города – того, в котором жил когда-то, уже не существует, как не существует и тебя самого, и эта твоя прогулка не более чем фикция, мираж, сюрреалистическая картинка, на которой голубым раскрашено небо, а грязно-белым – дома, и радость твоя от того, что день этот непредвиденно хорош, – радость эта тоже не вполне настоящая – она вне рамок того, что называлось твоей жизнью, она за гранью, за пределами.
Города нет, как нет дороги, ведущей к дому, который никуда не сдвинулся со своего места, не сдвинулся, не сгинул, не обвалился, оседая этажами, перегруженными случайной, большей частью устаревшей мебелью, собранной в году этак семьдесят девятом в братской социалистической республике – ГДР или Чехословакии, – как нет, впрочем, и самой республики, а мебель наперекор всему похрустывает изношенными суставами.
Так и стоит, кренясь балконами, забитыми всякой всячиной, допустим, подборкой журнала «Юность», начиная с шестьдесят пятого, или пыльными новомирскими изданиями, а еще истончившейся газетной трухой, в которой свинец, продолжая испаряться, травит чахлые растения в неуклюжих горшках.
Велосипедный насос, растрепанный скрипичный смычок, чехлы неизвестного предназначения, ракетки для тенниса, бельевая веревка с многократно высушенным и трижды отсыревшим в полоску и блеклый горошек, горсть деревянных прищепок, справочник по машиностроению, конспекты, исписанные ученическим, со старательным нажимом в начале и легкомысленно-расплывающимся к концу.
Связки писем «от него к ней», «от нее к нему» – перетянутые резинкой, – их никто не читает, и страшно подумать, почти не пишет. Затянутая в полиэтилен вечнозеленая елка. Переложенные клочьями ваты, еще почти совсем целые игрушки. Избушка на курьих лапах. Космонавт с поднятой левой рукой. Шестипалая снежинка на длинной ноге.
Города нет, как нет и того, кто одним махом взлетал на пятый, кажется, пятый или все-таки четвертый, – сначала одним махом, потом с небольшими остановками между этажами, потом – медленно занося левую ногу над ступенькой, мужественно преодолевая третий пролет, – кошачий закуток останется таким же живописным и сегодня, – с картонкой, в которой живое и беззащитное требует тепла, и молока, и продолжения жизни, – тянется к свету, к слабой полоске, падающей из правого верхнего угла, где железная скоба, выкрашенная в неопределенно тусклый цвет, так и не закрывается, и не закроется никогда, и потому от холода сводит пальцы, – в уже неважно каком году, потому что года этого уже нет, как нет меня, его, ее, – нет причин и обстоятельств, и повода стоять в глубоком колодце двора, запрокинув голову, считать окна, в которых, возможно, еще теплится, горит, любит.
Бродить в темноте, разбрасывая спички, много спичек, мусоля пустой коробок, – пока где-то не залает собака или не забрезжит первая звезда, – как сладко прощаться навсегда, дышать в спину прозрением, безразличием, – выдыхая, отсекая, вырывая, – изношенную, ненужную, устаревшую – случайную, конечно же, случайную, благополучно погребенную под завалами.
Ее никто не искал. Никто не искал, не допытывался – вот город, шумит, сверкает огнями, витринами, штукатуркой, фасадом, – а в глубине двора качели поскрипывают жалобно, и дерево под окном.