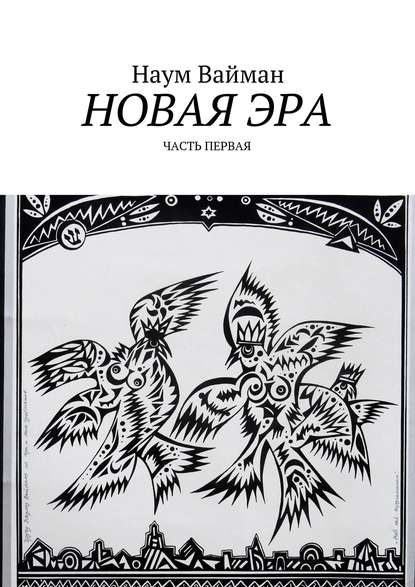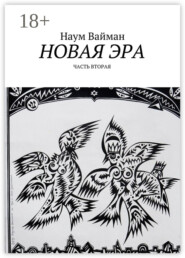По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Новая эра. Часть первая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– …да, вроде, его там за поэта держат, так он высказался, что это, мол, прозаическое описание путешествий. Да? Вот так, пишешь двадцать лет, где-то там как-то существуешь в литературе, и вдруг приходит какой-нибудь Шпарк-Шперк, ну Шваб, Шваб, да… я ему чего-то сказал, а я, ты не представляешь себе какой был сноб когда-то, это я сейчас добрый и старый, а в молодости… в общем, я ему что-то сказал, так он ушел…
Рассказал («только между нами, да?»), что Ира Гробман хвалит мою книгу («Ты же знаешь, они к тебе вообще-то не очень, да?, а тут прям… говорит лучшая книга о нашей тут жизни, а для них похвалить – ты знаешь это…»). Тут я вспомнил, что надо бы Гробманов пригласить, хоть они о вечере знают, конечно, и придут, но надо пригласить. Позвонил. Ира сказала, что «посмотрела» книгу и нашла, что я много поработал, что стала гораздо лучше, и вообще хорошая получилась книга. Ну, спасибо, хорошо если так.
Не скрою, приятно было.
4.4.2000. Уже тепло. Встретился с Ф, перекусили в порту. Выясняли отношения.
Надо завязывать. И чем резче, тем лучше.
Тоже (как жена) хочет, чтобы мужчина не телом ее интересовался, а душой.
… – Ты был для меня, и сейчас есть, самым близким человеком. Если я думала о ком-то, кого хотела бы видеть всегда рядом, кто был бы мне опорой…
– Ну, тут ты сильно ошиблась, я никогда никому не служил опорой. Я это занятие не люблю.
– Да, я потом поняла… Я тогда, в июле, позволила себе открыть все шлюзы.., но ты, надо отдать тебе должное, ты меня постепенно погасил…
– Значит, экзамен на пожарника выдержал?
– Вполне.
Для Л: Так ты влюблена?
Как часто вы видитесь? Сколько ему лет? Чем занимается?
А насчет свиданьица – я был бы рад.
От Л:
Так приезжай, гостем будешь дорогим, за одно и познакомлю. Он русский знает, в Москве был, на выставке, в Питере, в 77 году, кажется.
6.4.2000. Проснулся рано. Читал Розанова. «Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия…» Это прям по Ницше: «Когда болит душа – тогда не до язычества».
Позвонил Марк Зайчик
– Наум, я прочитал вашу книгу…
– Как, уже?!
– Да, вчера до пяти утра читал, не мог оторваться. В общем, Наум, я ваш поклонник. Вообще в России она, по-моему, должна произвести фуррор… Принимаю любой ваш материал, без ограничений, кроме, пожалуй, одного: я при слове «трахать» вздрагиваю. Ну что делать, я старый, толстый, больной еврей…
– Да бросьте вы, Марк…
– Ну и топтать кого-то тоже, конечно… А так, все что угодно, о нашей жизни, что-нибудь мускулистое…
Позвонил в Москву Мише. Голос пободрее. Книгу читает. Напишет. Не обиделся («Да я не обижусь, хоть назови меня старым девственником»).
– Наум, ты человек общительный, найди мне жену. Чтоб была добрая, с ребенком или без ребенка, мне все равно. И не обязательно чтоб понимала в современной литературе. Достаточно, если Гоголя читала. Мне нужен человек рядом. А если я женюсь, тогда я к вам приеду.
От Ф:
Почему не пишешь? А я с таким интересом читаю твою книгу, не оторваться. Или она здорово изменилась по сравнению с текстом на интернете, либо мое восприятие так резко изменилось. Но она стала четче, более концентрированной, и более искренной. По-настоящему искренней, от сердца, а не от желания шокировать, «резать» правду-матку. Или демонстрировать интимные стороны жизни. Выстраданной и выпестованной.
И мне тебя не хватает, потому что хочется «бросить реплики», а пока до компьютера дойду, помню не все.. Хоть с тетрадкой читай. Знаешь, а пожарник из тебя никудышный…
Продолжая чтения, я не смогла удержаться «в рамках» объективного читателя, и мелкие чувства типа ревности и обиды стали брать верх. Человеку важно чувствовать свою незаменимость, единственность, уникальность. У тебя же такая мозаика женских лиц и… других частей тела, что мне очень неуютно в этой шумной компании. Кто я для тебя? Еще три строчки в романе?
Я рад, что тебе интересно читать. Ты права, что «человеку важно чувствовать свою незаменимость, единственность» (отсюда и ревность), но мы ж для того и занимаемся философией, чтобы изжить это себялюбие?
От Цветкова:
Наум, на днях беседовал с Сережей Гандлевским, и он видел твою книгу, правда, под другим названием, на московских прилавках. С чем и поздравляю. Если уже есть рецензии – сообщи где.
А пишу я вот по какому поводу. Сережа живет в России, которая мне уже ненавистнее зубной боли, и хотя повидаться с ним хочется, но уж больно неприятно туда выбираться. А тут вдруг известие, что он в составе какой-то агиткультбригады намерен первую декаду июня провести в Израиле. Что даст мне возможность убить всех трех зайцев: побывать в любимой стране, повидаться с тобой и с ним. У вас, правда, об эту пору тепловато, но как-нибудь переживу.
Сообщи, какие имеешь планы на этот период времени. Мои пока неточны – яснее станет к маю.
Леша, привет!
Замечательно! Буду очень рад. Очень надеюсь, что Сережа, став нынче уже просто «маститым», не обиделся на мою «литературу». Тогда мы славно проведем время. Планов у меня никаких нет на лето, в смысле поездки. Буду ждать. Сообщи, когда все уже конкретно наметится.
Если адрес у тебя не поменялся, то я тебе книжку на следующей неделе вышлю. А то и две: помню, что Элла, жена Пети Вайля, в свое время выразила желание ознакомится.
Привет Краве
Наум
7.4.2000. Вчера меня чествовали «на крыше». Были Гольдштейны, Гробманы, Шамиры, Таня с Аркадием, Боря Юхвец, Шаус, Тарасов. Вместе с нами и хозяйкой дома (плюс годовалая дочь и блаженный муж) – 16 человек. Бараш позвонил и сказал, что у него сломалась машина и подскочило давление. Дико извинялся. Режиссеры застряли на съемках, а Мерлин не потащился вдаль (Иерушалаим – не ближний свет).
Гробман предложил тост за мою следующую книгу. Хлебнув молодого вина и запоздалой славы, я полез ко всем со своей дружбой:
– Я помню, мне Володя как-то сказал: ты что, в литературе друзей ищешь?! (Да, в самом деле, нашел где искать! – послышались реплики) Да.., и я тоже как-то смутился, и подумал, ну, в самом деле. И вот, так получилось, что кроме нашего литературного общения…
– Ты вдруг понял, что литература – это и есть жизнь! – сказала Ира Гробман.
– В общем, я сейчас чувствую, что обрел друзей. Вот за это и хочу выпить!
Я был на грани слезопролития.
– С удовольствием присоединяюсь! – Гольдштейн чокнулся со мной бумажным стаканчиком. Тарасов что-то про него съязвил. Он уже был под мухой, задирался, но Гольдштейн, в последнее время весьма укрепленный в своих силах (поведал Риммке: «У нас очень хорошая квартира»), ответил ему почти вызывающим тоном: «Да, Володя?» Тарасов продолжал язвить, что ему Гольдштейн ответил, я не расслышал, отвлекли. Чо делали? Пили-ели, Риммка колбаски всякие закупила, пирожки, я французского вина натащил, всё, надо сказать, вылакали, от вина перешли к водке, кое-где даже вполголоса о литературе что-то там. Гольдштейн с Шаусом заспорили о Сорокине, Шамир подключился, Ира Гробман рассказывала об идее устроить вечер авторов «Зеркала», у которых вышли книги. Мою (ее внешний вид) все, кстати, хвалили, Шамир заинтересовался, почему я выбрал именно период с 92-ого по 96-ой, Гробман пел частушки: «Шел я как-то камышом, встретил бабу голышом. Здравствуй, баба, добрый день, дай пощупать за пиздень», «Жил в деревне старый дед, делал сам себе минет. Возле каждого куста сам себя имел в уста».
– Опять эрос невозможного, – произнес со вздохом чей-то женский голос.
У меня нервы не выдержали: все-таки литературный вечер, – решил почитать, через полстранички почувствовал в воздухе напряжение скуки и вовремя прекратил. Все радостно расслабились, Шамир сказал: мы тебя любим не за это, ты лучше спой, и Гробман все подначивал, ну я спел, сбился на Есенина, завыл, никто меня уже не слушал, кроме Гробмана с Шамиром – рядом сидели, мы с Шамиром затянули: «Я был батальонный разведчик…» На строчке: «Я срать бы с ним рядом не сел…» Гробман встрял и обозвал это натурализмом, предложил поправку: «хезать», «Я б хезать с ним рядом не сел!», разгорелся филологический спор, собрание становилось катастрофически необязательным. Я заткнулся (тут как раз и на водку перешли). Гробман требовал продолжения пения. Я стал хныкать, мол, не любит никто, не любят меня.
– А ты чего, хочешь чтоб тебя любили? – рассердился Гробман. – А ты чьей любви хочешь, Шауса? Так Шаус тебя так полюбит, что жопу в клочья, или вот мы с Шамиром, мы тебя так полюбим…
Тарасов шипел Риммке: «Я их всех ненавижу!», Оля озабоченно следила за дочкой, чувствовалось, что ей не до сборища, Таня с Аркадием загадочно улыбались, как театральные маски, Юхвец хлестал водку и держал на чреслах кота, Гробман продолжал напевать свое: «Расцвела за городом акация, всюду слышны песни соловья. У меня сегодня менструация, значит не беременная я.…», потом сел на этого кота, нарочно сел, кот с визгом удрал, Оле это не понравилось, Шамир, чтоб Олю позлить, сказал, что кот немного сплющен. Мелькнула догадка: пора отчаливать. Тогда Гробман круто взял «серьезный» тон и повел речь о том, что «останется» тот, кто смог себя выразить, что все уникальны и неповторимы, но немногие могут себя выразить, выразить свою неповторимость, так что давайте выпьем за эту книгу, это удачная книга, и вообще, книга – важное дело, «и учти, Вайман, что ты теперь умер, ты умер, понимаешь? Книга – это смерть. Ты теперь воскреснешь, только если напишешь новую книгу, а пока ты умер, все…»
Рассказал («только между нами, да?»), что Ира Гробман хвалит мою книгу («Ты же знаешь, они к тебе вообще-то не очень, да?, а тут прям… говорит лучшая книга о нашей тут жизни, а для них похвалить – ты знаешь это…»). Тут я вспомнил, что надо бы Гробманов пригласить, хоть они о вечере знают, конечно, и придут, но надо пригласить. Позвонил. Ира сказала, что «посмотрела» книгу и нашла, что я много поработал, что стала гораздо лучше, и вообще хорошая получилась книга. Ну, спасибо, хорошо если так.
Не скрою, приятно было.
4.4.2000. Уже тепло. Встретился с Ф, перекусили в порту. Выясняли отношения.
Надо завязывать. И чем резче, тем лучше.
Тоже (как жена) хочет, чтобы мужчина не телом ее интересовался, а душой.
… – Ты был для меня, и сейчас есть, самым близким человеком. Если я думала о ком-то, кого хотела бы видеть всегда рядом, кто был бы мне опорой…
– Ну, тут ты сильно ошиблась, я никогда никому не служил опорой. Я это занятие не люблю.
– Да, я потом поняла… Я тогда, в июле, позволила себе открыть все шлюзы.., но ты, надо отдать тебе должное, ты меня постепенно погасил…
– Значит, экзамен на пожарника выдержал?
– Вполне.
Для Л: Так ты влюблена?
Как часто вы видитесь? Сколько ему лет? Чем занимается?
А насчет свиданьица – я был бы рад.
От Л:
Так приезжай, гостем будешь дорогим, за одно и познакомлю. Он русский знает, в Москве был, на выставке, в Питере, в 77 году, кажется.
6.4.2000. Проснулся рано. Читал Розанова. «Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия…» Это прям по Ницше: «Когда болит душа – тогда не до язычества».
Позвонил Марк Зайчик
– Наум, я прочитал вашу книгу…
– Как, уже?!
– Да, вчера до пяти утра читал, не мог оторваться. В общем, Наум, я ваш поклонник. Вообще в России она, по-моему, должна произвести фуррор… Принимаю любой ваш материал, без ограничений, кроме, пожалуй, одного: я при слове «трахать» вздрагиваю. Ну что делать, я старый, толстый, больной еврей…
– Да бросьте вы, Марк…
– Ну и топтать кого-то тоже, конечно… А так, все что угодно, о нашей жизни, что-нибудь мускулистое…
Позвонил в Москву Мише. Голос пободрее. Книгу читает. Напишет. Не обиделся («Да я не обижусь, хоть назови меня старым девственником»).
– Наум, ты человек общительный, найди мне жену. Чтоб была добрая, с ребенком или без ребенка, мне все равно. И не обязательно чтоб понимала в современной литературе. Достаточно, если Гоголя читала. Мне нужен человек рядом. А если я женюсь, тогда я к вам приеду.
От Ф:
Почему не пишешь? А я с таким интересом читаю твою книгу, не оторваться. Или она здорово изменилась по сравнению с текстом на интернете, либо мое восприятие так резко изменилось. Но она стала четче, более концентрированной, и более искренной. По-настоящему искренней, от сердца, а не от желания шокировать, «резать» правду-матку. Или демонстрировать интимные стороны жизни. Выстраданной и выпестованной.
И мне тебя не хватает, потому что хочется «бросить реплики», а пока до компьютера дойду, помню не все.. Хоть с тетрадкой читай. Знаешь, а пожарник из тебя никудышный…
Продолжая чтения, я не смогла удержаться «в рамках» объективного читателя, и мелкие чувства типа ревности и обиды стали брать верх. Человеку важно чувствовать свою незаменимость, единственность, уникальность. У тебя же такая мозаика женских лиц и… других частей тела, что мне очень неуютно в этой шумной компании. Кто я для тебя? Еще три строчки в романе?
Я рад, что тебе интересно читать. Ты права, что «человеку важно чувствовать свою незаменимость, единственность» (отсюда и ревность), но мы ж для того и занимаемся философией, чтобы изжить это себялюбие?
От Цветкова:
Наум, на днях беседовал с Сережей Гандлевским, и он видел твою книгу, правда, под другим названием, на московских прилавках. С чем и поздравляю. Если уже есть рецензии – сообщи где.
А пишу я вот по какому поводу. Сережа живет в России, которая мне уже ненавистнее зубной боли, и хотя повидаться с ним хочется, но уж больно неприятно туда выбираться. А тут вдруг известие, что он в составе какой-то агиткультбригады намерен первую декаду июня провести в Израиле. Что даст мне возможность убить всех трех зайцев: побывать в любимой стране, повидаться с тобой и с ним. У вас, правда, об эту пору тепловато, но как-нибудь переживу.
Сообщи, какие имеешь планы на этот период времени. Мои пока неточны – яснее станет к маю.
Леша, привет!
Замечательно! Буду очень рад. Очень надеюсь, что Сережа, став нынче уже просто «маститым», не обиделся на мою «литературу». Тогда мы славно проведем время. Планов у меня никаких нет на лето, в смысле поездки. Буду ждать. Сообщи, когда все уже конкретно наметится.
Если адрес у тебя не поменялся, то я тебе книжку на следующей неделе вышлю. А то и две: помню, что Элла, жена Пети Вайля, в свое время выразила желание ознакомится.
Привет Краве
Наум
7.4.2000. Вчера меня чествовали «на крыше». Были Гольдштейны, Гробманы, Шамиры, Таня с Аркадием, Боря Юхвец, Шаус, Тарасов. Вместе с нами и хозяйкой дома (плюс годовалая дочь и блаженный муж) – 16 человек. Бараш позвонил и сказал, что у него сломалась машина и подскочило давление. Дико извинялся. Режиссеры застряли на съемках, а Мерлин не потащился вдаль (Иерушалаим – не ближний свет).
Гробман предложил тост за мою следующую книгу. Хлебнув молодого вина и запоздалой славы, я полез ко всем со своей дружбой:
– Я помню, мне Володя как-то сказал: ты что, в литературе друзей ищешь?! (Да, в самом деле, нашел где искать! – послышались реплики) Да.., и я тоже как-то смутился, и подумал, ну, в самом деле. И вот, так получилось, что кроме нашего литературного общения…
– Ты вдруг понял, что литература – это и есть жизнь! – сказала Ира Гробман.
– В общем, я сейчас чувствую, что обрел друзей. Вот за это и хочу выпить!
Я был на грани слезопролития.
– С удовольствием присоединяюсь! – Гольдштейн чокнулся со мной бумажным стаканчиком. Тарасов что-то про него съязвил. Он уже был под мухой, задирался, но Гольдштейн, в последнее время весьма укрепленный в своих силах (поведал Риммке: «У нас очень хорошая квартира»), ответил ему почти вызывающим тоном: «Да, Володя?» Тарасов продолжал язвить, что ему Гольдштейн ответил, я не расслышал, отвлекли. Чо делали? Пили-ели, Риммка колбаски всякие закупила, пирожки, я французского вина натащил, всё, надо сказать, вылакали, от вина перешли к водке, кое-где даже вполголоса о литературе что-то там. Гольдштейн с Шаусом заспорили о Сорокине, Шамир подключился, Ира Гробман рассказывала об идее устроить вечер авторов «Зеркала», у которых вышли книги. Мою (ее внешний вид) все, кстати, хвалили, Шамир заинтересовался, почему я выбрал именно период с 92-ого по 96-ой, Гробман пел частушки: «Шел я как-то камышом, встретил бабу голышом. Здравствуй, баба, добрый день, дай пощупать за пиздень», «Жил в деревне старый дед, делал сам себе минет. Возле каждого куста сам себя имел в уста».
– Опять эрос невозможного, – произнес со вздохом чей-то женский голос.
У меня нервы не выдержали: все-таки литературный вечер, – решил почитать, через полстранички почувствовал в воздухе напряжение скуки и вовремя прекратил. Все радостно расслабились, Шамир сказал: мы тебя любим не за это, ты лучше спой, и Гробман все подначивал, ну я спел, сбился на Есенина, завыл, никто меня уже не слушал, кроме Гробмана с Шамиром – рядом сидели, мы с Шамиром затянули: «Я был батальонный разведчик…» На строчке: «Я срать бы с ним рядом не сел…» Гробман встрял и обозвал это натурализмом, предложил поправку: «хезать», «Я б хезать с ним рядом не сел!», разгорелся филологический спор, собрание становилось катастрофически необязательным. Я заткнулся (тут как раз и на водку перешли). Гробман требовал продолжения пения. Я стал хныкать, мол, не любит никто, не любят меня.
– А ты чего, хочешь чтоб тебя любили? – рассердился Гробман. – А ты чьей любви хочешь, Шауса? Так Шаус тебя так полюбит, что жопу в клочья, или вот мы с Шамиром, мы тебя так полюбим…
Тарасов шипел Риммке: «Я их всех ненавижу!», Оля озабоченно следила за дочкой, чувствовалось, что ей не до сборища, Таня с Аркадием загадочно улыбались, как театральные маски, Юхвец хлестал водку и держал на чреслах кота, Гробман продолжал напевать свое: «Расцвела за городом акация, всюду слышны песни соловья. У меня сегодня менструация, значит не беременная я.…», потом сел на этого кота, нарочно сел, кот с визгом удрал, Оле это не понравилось, Шамир, чтоб Олю позлить, сказал, что кот немного сплющен. Мелькнула догадка: пора отчаливать. Тогда Гробман круто взял «серьезный» тон и повел речь о том, что «останется» тот, кто смог себя выразить, что все уникальны и неповторимы, но немногие могут себя выразить, выразить свою неповторимость, так что давайте выпьем за эту книгу, это удачная книга, и вообще, книга – важное дело, «и учти, Вайман, что ты теперь умер, ты умер, понимаешь? Книга – это смерть. Ты теперь воскреснешь, только если напишешь новую книгу, а пока ты умер, все…»