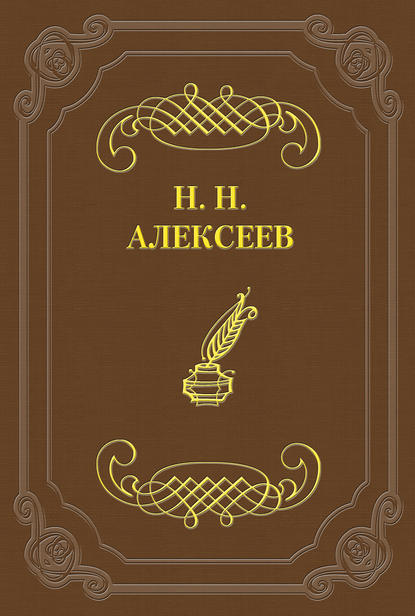По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лжецаревич
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Верно, я мало молился».
Когда его начали учить грамоте, он быстро постиг «книжное искусство» и жадно набросился на книги. Книги были только духовного содержания, да он иных и не желал: ему хотелось узнать побольше о Боге.
Целый новый мир открылся ему. Он постигал Бога грозного и милосердного, Бога – Судью и Бога – Отца. Теперь уж он не мечтал увидеть Его, он осознал, что еще не достоин этого. Осознал он также, что доступ к Богу открыт, и каждый, кто трудами на пользу ближних, молитвами и чистою жизнью заслужит милость Божию, улицезреет Его. И он порешил этого достичь.
Цель жизни была найдена, но лежала она не в жизни, а за жизнью. Сама по себе жизнь была только средством, жизнь истинная должна была начаться только после прекращения земного бытия.
При таком мировоззрении наслаждения и радости житейские являлись только соблазнами, поэтому-то Александр и избегал их.
Жениться, по мнению молодого боярина, это значило пасть, прилепиться к земле, связать себя с жизнью испытанием, крепкими узами.
Жизнь, едва терпимая, как средство, должна была обратиться в цель.
Мог ли с этим помириться Александр Лазаревич?
Известие, что отец окончательно решился женить его, потрясло молодого человека. Что отец непременно приведет свое намеренье в исполнение, в этом «богомол» не сомневался: он хорошо знал, что старик, долго сбираясь с духом, решившись, умел рубить сплеча. Просить отца бесполезно. Где найти защиту и помощь?
Конечно, у Бога!
Александр едва успел перевести дух от быстрой и долгой ходьбы, стал на колени и начал молиться.
Он молился долго и усердно в этом обширном, как мир, храме, где куполом служило небо, полом – земля. Поднялся он успокоенным.
«Господь все устроит… Его святая воля!» – подумал он, крестясь в последний раз.
Луч солнца пробился сквозь серую пелену облаков. Тусклый и одинокий, он все же сразу прогнал скучно-серый покров осени и выделил яркие краски. Запестрели желтые и красные осенние листья, засверкала темная вода Москвы-реки. Птичка-зимовка зашевелилась на ветке и чирикнула…
Александр поглядел вокруг себя, вдохнул полною грудью сырой, но душистый осенний воздух и промолвил:
– Благодать!
И совсем спокойно стало у него на сердце.
IV. В доме князя Щербинина
Молодой боярин, князь Алексей Фомич Щербинин собирался засесть за обед.
– Кто это у тебя там, Аленушка, – сказал он, помолясь и усевшись за стол: – монахиня, кажись, какая-то? Я, проходя, мельком видел.
– Это ко мне инокиня-старушка забрела мимоходом. За сбором она в Москву прислана. Поклон от матери Максипатры тебе да мне привезла, – ответила Елена Лукьянишна.
– От матери Максипатры?
– Да, от Дуняши…
– А-а! А я, было, сразу и не вспомнил. До сей поры не могу привыкнуть считать Дуняшу инокиней. Да уж теперь и Дуняши-то нет, а есть мать Максипатра, богомолица наша. Да! Как это дивно все Господь устроил! Давно ль Павел-то замуж Дуню брал? Думал ли тогда кто, что пройдет год-другой – и Павел пропадет бесследно, и Дуняша из боярыни Белой-Турениной матерью Максипатрой станет?
– Павел-то Степаныч помер… Жаль, его! Добрый человек был, а какою смертью жизнь окончил!
– Сдается мне все почему-то, Алена, что из Москвы-реки это не его вытащили, – задумчиво проговорил Алексей Фомич.
– Он, он! Весь облик его.
– Облик точно схож, а только лица-то не разобрать было.
– Он, он!
– Верней, что он, конечно… Не снес горя – погубил душу. Прости, Господь, его грешного. Дивно все это, куда как дивно! Да взять и нас с тобой – нешто не диковинно тоже судьба наша устроилась?
– Что говорить! Не сломай медведь твоего батюшку – быть мне не женой тебе, а мачехой.
– Что б и было! Подумаешь иной раз, так и скажешь, что и жаль батюшку, а все ж его смерть счастье наше состроила.
– Точно что.
– Греховодники мы с тобой, Аленка, – этакое говорим. Давай-ка обед лучше поскорей.
Вошел холоп.
– Гость к тебе, князь, боярин.
– Гость? Кто?
– Боярин Лазарь Павлович.
– А-а! Пойду встречать гостя дорогого! – воскликнул Алексей Фомич, поднимаясь. Но гость уже сам показался в дверях.
– Не в пору гость хуже татарина, говорят, а? Осерчает, чай, на меня хозяюшка молодая? – смеясь, сказал Лазарь Павлович, высокий толстяк, с красным крайне добродушным лицом, украшенным крупным мясистым носом и маленькими, часто мигающими глазами.
– И не грех это тебе говорить так! – укоризненно заметил Алексей Фомич, целуясь с гостем. – Жена! Задай-ка ему хорошенько за словеса за такие!
– Точно, точно, Лазарь Павлович, не след нас обижать… – начала Елена Лукьянишна, но Двудесятин ее перебил:
– Ай, батюшки! Да вы совсем меня, беднягу, затравите! А вас двое – я один. Делать нечего, прощенья прошу – больно уж вы строгие. Дай-ка лучше на хозяюшку полюбуюся молодую. Ишь, все краше да краше становится она у тебя, Алексей Фомич, ей-ей. Ажио зависть берет: кабы моя старуха тож так хорошела, хе-хе-хе! Здоровенька ли, Елена Лукьянишна?
– Бог грехам терпит. Как ты да Марья Пахомовна?
– А ничего себе, живем помаленьку. Сына, вот, женить сбираюсь.
– Большого, чай? – спросил Щербинин.
– Его, его! Малость мне потолковать по сему надоть. Видишь ли, хочу ему я сватать…
– Стой, стой! И слушать не буду! Наперед хлеба-соли нашего откушай, после и потолкуем. Молись-ка да садись, вот сюда. Алена! Покорми-ка нас, – сказал Алексей Фомич.
– Нечего делать, приходится слушать хозяина, – промолвил Лазарь Павлович, перекрестившись и пролезая за стол.
Елена Лукьянишна отдала холопам приказ подавать.
Другие электронные книги автора Николай Николаевич Алексеев
Розы и тернии




 4.5
4.5
Игра судьбы




 4.6
4.6