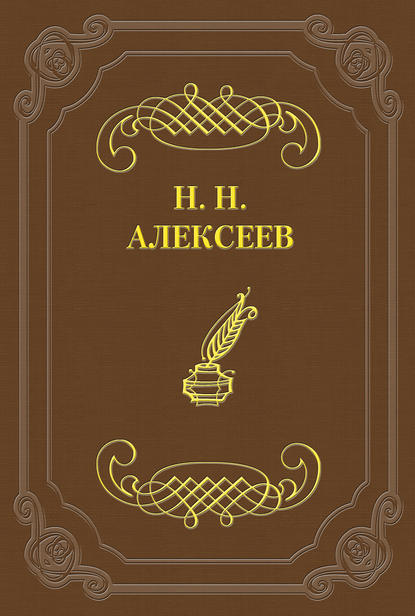По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лжецаревич
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот диво! С чего же это он?
– Сегодня ночью тайком убег. Ранным-рано будят меня холопки: «Боярыня! У нас неладно!» – «Что?» – спрашиваю. – «А Лександра Лазарыч убежали». Я даже рот разинула и ушам не верю. Побежала в его горницу – точно: нет его, и постель не смята. А на столе запись, вот эта самая, – боярыня держала в руке лоскут бумаги. – А в ней… О-ох! А в ней – грамотеи разобрали – прописано: «Матушка родная! Не ищи ты меня дарма – все равно не найдешь. Укроюсь я в монастырь; когда ангельский чин приму, тогда объявлюсь. Так и батюшке скажи». Вот оно, горе-то мое! Бывает ли у кого горшее? О-ох! Как и силушки вынести хватает? Прибегла я к тебе, Лексей Фомич… Прослышала я, что ты в войско отъезжаешь… Увидишься ты там с муженьком моим, сделай милость божескую, перескажи ему все и вот запись эту передай. Да скажи, что слезно молю его вернуться с поля – пропаду, изведусь с тоски я тут одна-одинешенька.
– Ладно, отчего не сказать. Дай запись.
– Княже! Люди сказывают, другие бояре – сопутчики твои – уже выехали… Не пора ли? – промолвил один из холопов.
– Да, пора! – тяжело вздохнув, сказал Алексей Фомич и поднялся.
XVIII. Бой при Добрыничах
Шуйский нашел остатки разбитой московской рати в лесах близ Стародуба. Войско сидело там, окруженное засеками, и не двигалось с места; что было причиной такого бездействия: боязнь ли «царевича» или неспособность больного Мстиславского – трудно сказать.
Василий Иванович решил не мешкать и, соединясь с другим войском, собравшимся у Кром, двинулся к Севску, куда удалился самозванец, снявши осаду Новгорода-Северского.
Московских ратников было около восьмидесяти тысяч. Лжецаревич имел всего пятнадцать тысяч.
– Знаешь что, боярин? – сказал Димитрий, сведав о движении московского войска, Белому-Туренину. – А ведь я пойду навстречу московской рати!
– Твое дело, царевич. Но, если хочешь знать правду – не дело ты затеваешь.
– Это почему? – нетерпеливо спросил самозванец.
– Потому что в открытом поле твоя малая рать не устоит супротив сильной рати московской.
– Вот пустяки! Побил же я ее под Новгородом!
– Случай такой выдался, опешило больно уж Борисово войско. Что раз удалось, другой, может, и не удастся.
– И теперь опешит! Наверно! Да все равно, будь что будет – я иду. Моченьки нет сидеть сложа руки да ждать у моря погоды. Я не могу, не могу!
Он говорил это совершенно искренно – его кипучая натура требовала беспрерывной деятельности.
Лжецаревич двинулся навстречу «московцам». Войска встретились у деревни Добрыничи. 20 января 1605 года Димитрий попытался напасть ночью врасплох на занятую московскою ратью деревню, но попытка не удалась.
На следующий день произошла битва.
Дело началось жаркой перестрелкой. Самозванец на караковом горячем коне ездил под пулями, рассматривая расположение враждебного войска. Он видел густые, темные ряды московской пехоты, занявшей деревню. Это был центр войска. Правое и левое крылья, где стояла конница и немецкие воины, далеко выдвигались из деревни, примыкая в то же время к пехоте и составляя с нею одну непрерывную линию.
Построение московской рати заставило Лжецаревича призадуматься. Борисово войско не двигалось; что оно изменит свое построение, нечего было надеяться. Как разбить его? Ударить на центр? Кроме опасности быть окруженным со всем своим малочисленным войском, эта пехота, такая тяжелая, неподвижная, была страшна. Царевич много раз слышал от самих поляков, что при массовых действиях московская пешая рать почти непобедима. Необходимо было раздробить массу, отрезать фланги от центра. Вон как далеко выдвинулось правое крыло… Если его отрезать от деревни – линия войска была бы прервана. Не давая «московцам» опомниться, можно было бы тогда без особенного риска напасть на растерявшуюся пехоту… План хорош, хоть и смел, или, вернее, хорош потому, что смел.
В самозванце храбрый воин преобладал над благоразумным полководцем.
Димитрий вернулся к своим и построил войско для атаки. Четыреста оставшихся при нем поляков и две тысячи русских сподвижников предназначались для первого удара. Далее должны были скакать восемь тысяч казаков, после них, наконец, должны были двинуться четыре тысячи пехотинцев и «снаряд».
Настала минута атаки. Все понимали, что от нее зависит исход боя, что эта атака – безумно смелая попытка, и все поэтому были торжественно настроены. Не было ни разговоров, ни смеха; ряды всадников в белых плащах, которые русские товарищи самозванца накинули поверх кольчуг, чтобы отличить своих во время битвы, казались, сливаясь вдали, каменным, мраморным морем – так неподвижны были они; впереди пестрели такие же неподвижные ряды поляков.
Резкий звук трубы прозвучал и замер, и вслед затем зарокотали десятки труб, загремели литавры.
Мраморное море всколыхнулось. Еще миг – и вся масса воинов с Лжецаревичем во главе, неистово крича, звеня доспехами, потрясая оружием, понеслась на «московцев».
Мстиславский, увидя несущихся врагов, угадал намеренье самозванца и, прикрыв центр, выдвинул то крыло, которое Димитрий хотел отрезать.
Налетели всадники и врезались в ряды конных «московцев», как железный клин в мягкое дерево. Смели их, разметали… Но вот перед ними стальная стена панцирей. Лес копий разом опустился, словно подрубленный каким чародеем, и стальное жало глубоко вонзилось в грудь коней: так встретили воинов самозванца немцы. Слышно, как трещат, ломаясь, древки копий. Залязгали сабли по шеломам и латам: стальная стена столкнулась с теперь уже бурным, неудержимо стремительным мраморным морем. И море заставило стену податься.
– За мной! Вперед! – кричит Лжецаревич и с бешеной отвагой рвется в самую гущу врагов.
Шаг за шагом, в стройном порядке, но все же отступают немцы. Еще напор, еще одно усилие – и ряды их прорваны. Дальше – свободное пространство, а за ним – московская пехота.
Самозванец торжествовал.
Казаки с гаком сорвались с позиции и летят добивать разбитое войско. А Димитрий со своей конницей мчится дальше, к деревне, на московских пехотинцев; мчится уже довершать победу.
Пехота стоит не шелохнется. Кажется, она не замечает несущуюся на нее грозную шумную рать. Уже воины Лжецаревича заранее предвкушают кровожадное наслаждение врезаться в эту массу тел, давить конем, рубить направо-налево. А «московцы» по-прежнему неподвижны.
Коротко ударили в набат[15 - Набат – литавры; ими подавались сигналы.].
Ряды пехоты слегка раздались, выставились темные жерла пушек. И опять все замерло.
Земля стонет от топота конницы.
– Победа! Победа несомненно! – шепчет Лжецаревич и помахивает саблей над головой, готовясь рубить угрюмые бородатые лица «московцев», которые он уже ясно различает.
Опять коротко звякнул набат.
Выдвинулись сошки-секирки, стволы пищалей легли на них. Курятся фитили. День тих, и тонкие струйки дыма столбиками тянутся вверх.
Снова набат; но теперь иной, протяжный, режущий ухо, неумолчный. Густой звук рога и тонкие переливы трубы присоединяются к нему.
Струйки дыма фитилей вдруг завились кольцами, огоньки опустились…
Казалось, зигзаг молнии пробежал по рядам пехоты. Взвились дымные облачка.
Земля дрогнула от страшного залпа. Сорок пушек и десять тысяч пищалей метнули в конницу свинцом и железом.
Произошло нечто невообразимое.
Передние ряды коней как-то странно ткнулись головами в землю, задние налетели на них. Все смешалось в стенящую кровавую груду человеческих и конских тел. И эта груда все росла, росла по мере того, как залпы продолжались. Вот пехота быстро двинулась вперед; прискакала московская конница с левого крыла, надвинулись разбитые было немцы – с правого. И вся эта масса колола, рубила оробевших или потерявшихся сподвижников Димитрия.
Забыты были гордые думы о победе: спасался, кто мог. Сам Лжецаревич скакал прочь, нахлестывая своего раненого аргамака, скакал потому, что не скакать – значило обрекать себя на верную гибель. Казаки, думавшие довершать победу, встретили толпы бегущих, были смяты, увлечены этим потоком кидающих оружие, вопящих от ужаса беглецов, и побежали вместе со всеми. Пешее войско Лжецаревича, еще не выступавшее на битву, оробело уже от одного вида бегущих. Оно разбилось сперва на мелкие отрядики, потом на отдельных ратников и в ужасе металось на пространстве восьми верст.
Немцы и «московцы» преследовали по пятам бегущих, били их.
Говорят, что в этом бою легло более шести тысяч сподвижников самозванца, было захвачено множество пленников, более десятка пушек, полтора десятка знамен. Более полную победу трудно было одержать. Разнесся слух, что сам Лжецаревич убит.
– Так, так! Лупи их, лупи! А, такие-сякие! Вспомните вы теперь Новогородскую битву! Вот я вас! – кричал в воинственном азарте Лазарь Павлович Двудесятин, преследуя бегущих.
Немного позади его скакал князь Щербинин.
Другие электронные книги автора Николай Николаевич Алексеев
Розы и тернии




 4.5
4.5
Игра судьбы




 4.6
4.6