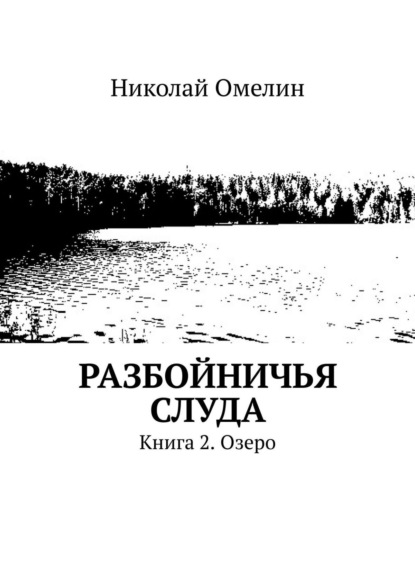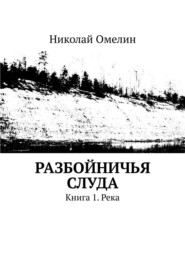По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разбойничья Слуда. Книга 2. Озеро
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты чего там? Болит что ли чего? – услышал он голос с полки напротив. – Весь уморгался чего-то.
– Да не. Это я так. Само как-то получается, – оторвался от своих видений Никифор.
И несколько смущенно, будто попутчик знал об его забаве, добавил:
– Вот гляжу в окно и не пойму я как-то. Толи война есть, толи нет ее.
– Для тебя Никишка ее уж точно нет, – произнес голос с нижней лавки, над которой лежал Ластинин. – Не думай о том, и голове легче будет, – произнес все тот же голос, с явным оканьем, принадлежащий рыжему, с веснушчатым лицом парню с черной на одном глазу повязкой.
Ластинин оторвал взгляд от окна и нагнулся к нему.
– Слышь, Гаврилка! А ты своим одним глазом чё видишь? Мир или войну?
– Ты меня в палате своими вопросами замучил, и опять невесть что спрашиваешь. Вы, архангельские, неужто все такие? Отстань от меня!
«Дурак вологодский», – подумал Никифор и вытянулся на лавке.
Война для Ластинина закончилась ровно через год, после как, как его призвали. Двадцатого июня одна тысяча девятьсот пятнадцатого года он впервые взял в руки винтовку, а ровно через год осколком его и зацепило. И не одного его. Ранение в том же бою получил и ефрейтор Павел Гавзов, с которым когда-то они и новенькие трехлинейки получили в один день, а потом и воевали вместе. С Павлом Николаевичем Гавзовым, или «Па-пулей», как за глаза называли деревенские пацаны Пашку в Ачеме, их в один день на службу и призвали. Пашку в деревне местная ребятня поначалу звали то «Паш», то «Папа», а чаще – «Пуля», за его быстрые ноги и живой ум. Ну, а потом, как водится, благодаря смекалке тех же деревенских мальчишек, всё слилось воедино. Вот последнее и закрепилось за Пашкой. А первым от кого Никифор услышал Пашкино прозвище, был не Гришка-Евлеха, которому приписывали авторство, а Лизка – подружка Пашки.
Друзьями близкими Никифор и Пашка не были, хотя Ластинин и стремился к тому. Стремился, но виду не показывал. Характер еще тот – из старообрядцев родом. Были чуть ближе, чем со всеми, но не более того. В Ачеме вообще дружбу водить не стремились. У каждой семьи своё хозяйство было, ему и время всё своё отдавали. От того его на остальное почти не оставалось. В одной деревне жили, но будто каждый в своей. К успехам или неудачам других относились спокойно, без особых восторгов и переживаний.
В чужие дела без надобности тоже не вмешивались, потому, наверное, и зависти или надменности какой в отношениях ачемских крестьян не было. Да, праздники всей деревней гуляли, в обнимку за столом сидели, но не более. Ну а после них каждый на свое поле и в огороде, да со своей скотиной обряжались. У каждого были своя охотничья тропа, да и свой сенокос и лесной надел. Потому лясы точить им на другой день некогда было, да и желания обсуждать вчерашние посиделки тоже.
Вот и Пашка с Никифором вроде, как и вместе всегда, но в то же время и каждый себе на уме. После призыва вместе они на Северный фронт направлены были. В одной, вновь сформированной из таких же деревенских юнцов роте и воевать вместе начали. Вместе в атаку ходили, друг друга в рукопашной выручали. В один день и ефрейтора получили, и ранены были в одном бою. Только вот Никифору, как ему тогда казалось, повезло меньше. Пашка через месяц снова на фронт отправился, а он провалялся в госпитале три месяца. В первое время не знал радоваться или нет тому, что его комиссовали. Ощущение, что он в тылу, а кто-то за него воюет с германцем, да австрияками всякими, его не покидало.
Но куда он с такими руками? Хотя их как было, так две и осталось, но вот толку от второй особого не было. Контузия не беспокоила, а вот рука плохо слушалась, да и вдобавок к тому, еще и постоянно ныла. Как-то Никифор подумал даже о том, что уж лучше ее совсем не было. «Хоть не болела бы, – подумал он какой-то день, кривясь от боли». Да какой-то бывалый солдатик во время его образумил, сказав, что у тех, кого конечности нет, она все одно ноет. А потому и без руки ныть то место будет. Врач, делавший операцию, сказал, что сделали всё` возможное, чтобы спасти руку, и теперь только время покажет, что и как. И вообще пусть благодарит Бога, что жив остался. Так постепенно и свыкся Ластинин с мыслью о закончившейся для него войне.
Вот уже неделю, как он с еще доброй сотней комиссованных выехал с латышской станции со странным названием и от того не запомнившимся ему. Сделав несколько пересадок, он вместе с двумя земляками, прибыли в Архангельск. Добираться до дому из Вологды пароходом Ластинину было бы, конечно, быстрее. Однако, надеяться на речной транспорт в это время года он не стал. С приближением зимы пароходы с Вологды по реке уже вряд ли не ходили, а потому, хоть через Архангельск путь и дальше, но оттуда по Северной Двине добраться до Нижней Тойги еще было возможно.
Приехали не в сам Архангельск, а в Исакогорку – поселок с одноименной железнодорожной станцией на левом берегу Северной Двины. Оттуда до самого города было совсем рядом – версты три. А потом только через реку переправиться, и всё – город. Хотя железная дорога и доходила до самой Двины, но гражданские поезда туда не пускали. Весь путь был забит составами с военной техникой и снаряжением. А потому добраться до переправы, чтобы потом попасть на речной вокзал, можно было только пешком или, если есть чем платить, то с извозчиком.
Рука побаливала, но это уже была не та боль, с которой он очнулся в лазарете. Однако беспокойство, особенно по ночам, она доставляла. Попрощавшись с попутчиками, Никифор обвел взглядом близлежащие дома и строения. Сгоревший пакгауз напомнил ему о тех местах, откуда он прибыл. Рядом стоял новенький склад из еще не потемневших от времени нестроганных досок, из которого грузчики выкатывали телеги с тюками пеньки и льна. Прямо напротив здания вокзала лежали невесть откуда взявшиеся покореженные части пароходной обшивки. Выбитые в нескольких домах стекла, дополняли эту не радостную, более походившую на прифронтовую полосу картину.
Закинув здоровой рукой на плечо сидор, и отмахнувшись от надоедливых извозчиков, Ластинин не спеша зашагал в сторону, где должна была находиться переправа через реку. В воздухе уже явно чувствовалось приближение зимы и, чтобы пока не понесло шугу по реке, следовало поторопиться. Со слов однополчан ему следовало добраться до речного вокзала, откуда попутным пароходом до Нижней Тойги.
Никифор шел, разглядывая встречающихся на пути людей. Местные дома его мало привлекали, и разглядывать их у него никакого желания не было. А вот видеть гражданских, мирных людей, от которых уже поотвык, ему доставляло удовольствие. А уж при встрече какой-либо дамочки он еле сдерживал себя, чтобы не остановиться, глядя ей в след.
– Зинка! Зинка! Это – я, Микола! – вдруг прервал его безмятежное состояние чей-то крик.
Никифор неохотно повернулся в сторону невысокого чернявого мужика, стоящего рядом с двухэтажным, обшитым строганной доской зданием, и остановился. Глядя на краснощекого с большим, похожим на картошку, носом мужичка, понял, что тот был явно не трезв и пытается до кого-то докричаться. И этот кто-то видимо находится внутри этого дома.
Заметив Ластинина, он махнул ему рукой.
– Слышь, служивый… – мужичок замялся, словно подбирая слова. – Слышь, мужик! Подсоби! Ж-женка моя в больнице лежит, а меня этот гад в палату не пускает! Сссанитар, мать его! – он подошел к окну, пытаясь ухватиться за карниз.
– Подожди, помогу, – спокойно, как-то даже обыденно проговорил Ластинин и шагнул к дому.
Он присел, обхватил мужика здоровой рукой за ноги и приподнял. Тот ухватился за карниз и толкнул оконную раму. Окно оказалось закрытым, и мужчина, намереваясь повторить попытку, неловко качнулся и повалился вместе с Никифором на землю. Резкая боль в раненой руке отдалась во всём теле – мужик падая наступил на нее. Никифор застонал. Не в силах подняться и ругая на чем свет мужика и себя, он прислонился спиной к дому.
– Ты чего, солдат! – мужик, казалось, протрезвел. – Руку, чё сломал, чё ли?
Микола на коленях подполз к Ластинину, потом вдруг вскочил и побрел к входной двери. Минуту спустя он выбежал из больницы, указывая рукой в сторону Никифора. На крыльце показалась огромная фигура мужчины лет сорока в одетом поверх пальто белом халате.
– Э, паря, да ты после ранения. Видать не зажило еще толком, – сказал он, глядя на Ластинина. – У нас сейчас никого тута нет из дохторов. Я то – санитар, а дохтора все на Бакарице. Вернее есть, но тебе бы Гавриле Никанорычу показаться нужно. Там же щас как на войне – раненых десятки, а то и сотни были. Многих по другим больницам развезли, но на Бакарице тяжёлые, которых пока вести нельзя. Со всего города дохтора сейчас там разные есть. Надобно осмотреть тебя, вижу неладно что-то. Не дай Бог еще и вередил чего этот ирод тебе. Ходит сюда каждый день. Будто жену проверяет, не сбежала ли. А куды она денется.
Санитар умолк, о чем-то размышляя. Затем, хлопнув себя по лбу, воскликнул:
– Погоди-ка, туда подводу с лекарствами я сейчас погоню, так давай и тебя заберу. Тут недалеко и пешком, но чего ноги мять. В больницу не отказывайся. Оно, во-первых, всё по пути в город будет. Да и вдруг чего серьезное. Там Гаврила Никанорыч осмотрит. Куда ты с такой рукой! Не рука, а плетка конская, – проговорил детина и скрылся за углом больницы.
Спустя какое-то время повозка выехала на край холма, с которого вдалеке была видна Северная Двина. Гусиные шеи портовых кранов слегка разбавляли серую в общей массе картину окраин Архангельска. Рядом с повозкой, пошатываясь и скользя в подмерзших лужах, брел Микола. Время от времени он терял равновесие и чтобы не упасть хватался за свисающие с повозки ноги Ластинина или детины-санитара. Чувствуя вину перед солдатом, он вызвался сопровождать их, и самолично убедиться в оказанной тому медпомощи. А заодно, как он выразился, «поспособствовать потом в попаже на пароход».
Ветер дул им навстречу и Никифор в морозном осеннем воздухе уловил устойчивый запах гари с примесью кисели от разорвавшихся боеприпасов и каленого железа. Запах, который сопровождал его с тех пор, как впервые попал на передовую.
– Ага, тут у нас почище, чем на войне. То рванет, то сгорит, – увидев удивленный взгляд, Никифора, пояснил санитар.
– Что есть, то есть. Энто с Бакарицкого порта несёт, – пробурчал Микола. – Вот рвануло, так рвануло. Ты солдатик такого, поди, на войне своей не видывал, – он хотел что-то добавить, но ноги провалились в замерзшей земляной корке и разъехались в дорожной жиже.
Мужичок упал навзничь в осенне-зимнюю грязь от души матеря и ругая всех и вся на чем свет стоит.
– Да, дела… – протянул доселе молчавший санитар, не обращая внимания на ругань Миколы. – Тут у нас народу полегло, – он вздохнул, и словно соревнуясь с Миколой в искусности ругательства, разразился искусным матом в адрес побежавшего трусцой жеребца.
Он потянул на себя вожжи, стараясь придержать раздухарившегося коня.
– А чего случилось-то? – поинтересовался Никифор, с улыбкой наблюдая за Миколой пытавшегося догнать повозку.
– Чего, чего! Диверсия знамо. Тут у нас чуть не каждый день то корабли рвутся, то склады горят, – с некоторым налетом важности ответил тот. – А в этот раз вся Бакарица горела. Корабли с бомбами один за другим на воздух взлетали! Куски от пароходов на километры разлетались. Шпиёны, говорят, то учинили. Меня вот с Холмогор сюда прислали. Сказали, мол, поезжай Тимофей Ильич, помоги. Мы с нашей фельдшерицей уж с неделю тут. Да, что мы то! С Вологды поезда с пожарными и дохторами понаехали. Да, ты сам всё увидишь, уж почти приехали.
Микола догнал их в тот момент, когда Тимофей зычно крикнул: «Тпру-у-у! Ну, всё, приехали». Привязав лошадь к березе, он велел ждать его, и вбежав на крыльцо, скрылся за дверьми больницы.
Никифор какое-то время постоял у телеги, слушая то сидящих рядом на лавке мужиков, то заверения Миколы.
– Ты, ссслуживый, не сссумлевайся. Я тебя постарше, поди, буду. Меня Дымовым Миколой зовут, кстати. В мои тридцать семь с хвостиком слово держат. Я тебя одного не оставлю. Сссейчас врач осмотрит, и ко мне. Завтра на пароход посажу, не сссумлевайся. Я там, я там знаю всех, договорюсь. Без денег поплывешь в свою Тойгу Нижнюю, – рот у образовавшегося помощника не закрывался. – Али в Верхнюю? А все одно, поплывешь.
– В Нижнюю. Верхняя – то Тойма, а у нас Тойга, – пояснил Никифор.
– А, ну, вообщем все одно! Микола сказал, значит, поплывешь!
– Хорошо, Николай…
– Не-е, Николаем меня звать негоже. Миколой родители назвали, – поправил он Ластинина. – У меня и паспорт есть. И там Микола. Вот, назвали же на мою голову!
– Хорошо, Микола, хорошо. Не опоздать бы только. А то погода на мороз кабыть поворачивает, – озабоченно проговорил Ластинин. – А тут застряну надолго…
– Да не боись. Как замерзнет, так и оттает. Не время ещё зиме-то, – прервал его самонадеянно Микола.
– Я пойду, присяду где-нибудь. Подожду. Наверное, заняты все доктора, – добавил он, и, оглядевшись, приметил у больничной стены длинное бревно.
Посмотрев еще и не обнаружив более ничего подходящего, Никифор, слегка пригибаясь под окнами первого этажа, направился к бревну. Рука разболелась не на шутку, и он их прикрыл, опустившись на бревно. С закрытыми глазами, так ему казалось всегда, боль терпеть было легче. Он просидел буквально с минуту, привалившись спиной к стене больницы, как над головой послышался звук открывшейся форточки. «Лишь бы помоями какими не облили, – подумал он, вспоминая как совсем недавно сам неоднократно через форточку выбрасывал во двор окурки соседей по палате или другой мусор». Боль немного утихла, и он, подоткнув полы шинели и слушая доносившийся из форточки негромкий женский разговор, даже слегка задремал. Но сон улетучился, когда Никифор услышал такое знакомое слово «Ачем».