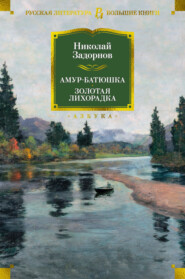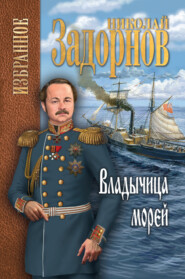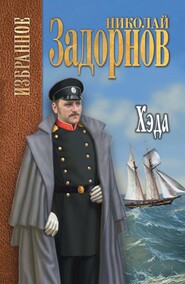По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Могусюмка и Гурьяныч
Год написания книги
1937
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В заводе дым, копоть, окалина.
– Я в степи жила, кроме киргизов и верблюдов, ничего не видела.
– Хочешь, так ступай на завод робить. У нас есть девки-коногоны.
– В заводе не робила, так любо тебе. А ты бы по-нашему с тачкой… Мы гоняли!
– Слава богу, что вырвались!
– При крепостном бы век скоротали в этом заводе.
В пруду поднимали воду. Плотину закрыли. От сливного моста Белая текла слабым ручьем. Из-под воды выступили камни.
Под вечер, в праздник, под скалами, у самой дороги, рассевшись на траве и на камнях, парни играли на бандурках и горланили песню.
– Ах, как тонко Мишутка выводит! – восхищалась Оленька. – Он у нас в церкви поет.
– Пойдемте к нам, девушки, – звали парни. У них наверху составился свой хор.
– А Мишка нравится тебе? – спрашивала Оля у Настасьи.
– Нет!
– И все ей не нравятся!
Подруги пошли вниз к мосту.
– Так не люб тебе Мишка? – допытывалась Олюшка.
– Нет, не люб, – отвечала Настя. – А вот это кто идет?
– Это с кричных…
– Твой жених идет! – с насмешкой крикнула Ольга, и девушки бросились врассыпную.
– Берегись его! Это Гурьян Гурьяныч, сейчас забалует… – закричали они Насте.
С моста в гору брел черный от копоти темно-русый лохматый мужик богатырского вида, в рваной, прожженной одежде.
Настя не побежала. Она искоса улыбнулась, глядя на заводского мастера. Тот раскрыл глаза широко, сверля ее взором, а она, закрывшись краешком платочка, вдруг прыснула со смеху. Лохматый молодой богатырь, пройдя несколько шагов, остановился и оглянулся назад.
– Настя, беги! – кричали рассыпавшиеся по скалам девушки.
Но Настя не уходила. Чуть не целую минуту стояли они, безмолвно глядя друг на друга. Настя – стройная, с лицом бело-розовым, тугим, что называется, кровь с молоком, с кораллами на белой шее, с делано наивным, озорным взглядом голубых нежных глаз. И Гурьяныч – лохматая и темная громадина, словно куском черного железа выкатившийся от всех этих гремящих за рекой печей, из-под навесов.
Настасья прошла мимо, не глядя на Гурьяныча. И тот, как бы удивившись чему-то, покачал головой и пошел своей дорогой.
– Так что же его бояться? – все с той же наивностью спросила подружек Настя. – Он совсем не страшный.
– Вот так «не страшный»! Это тебе обошлось! Погоди, он забалует в другой раз, сажей измажет. Ты не гляди, что у него борода, он еще молоденький, только лохматый, как медведь, из него волос лезет, как из зверя.
– Видишь, его прозвали Гурьяныч, как мужика, хоть ему еще и с парнями можно на улице водиться.
Девушки рассказали, что Гурьян в самом деле молод, ему еще нет и тридцати, и что жил он со старухой, дальней родственницей, да та померла.
– У них вся семья перемерла. Сам он из староверов, но с башкирами якшит – дружит, по-нашему. Свою старую веру позабыл, только за бороду еще держится.
Настя уже слыхала, что староверы с башкирами сходятся; для них что никониане, что мусульмане – один черт.
– Ох, он и здоровый! На ярмарке медведя поборол.
– На пруд купаться ходит. Люди видели, сказывают, как медведь, смотреть страшно, – рассказывала Олюшка.
– Ах, стыд какой! – завизжали девки.
– Этот Гурьяныч, по прозванию Сиволобов, – первый мастер на заводе и всех старых превысил.
– Он не вдовый? – спросила Настя.
– Нет, холостой… А тебе что?
– Да просто так, – не смущаясь, ответила Настя.
– Нет уж, видно, тебе понравился.
Тут Настя покраснела.
– Как, не боишься?
– Да он, видать, смирный.
– А погляди, как он на башкирских праздниках бушует. Начнет на сабантуе бороться, кидает людей о землю.
– Ты не видала, как башкиры на празднике с завязанными глазами палками бьют горшки? Это у них разные игры такие. Башкиры орут, обвяжут ему лицо – смотреть страшно: все боятся, что он подглядывает. Все равно Гурьян как дубиной размахнется – черепки летят.
– Что же тут худого?
– А ты что заступаешься?
– Да просто так.
– Вот смотри, скажем ему…
– На гулянку придет – половицы ходуном ходят. У Залавиных на свадьбе топнул – доски в подполье продавил.
На другой день Гурьяныч, умытый, в новой рубахе, пришел, сел на камень на лужайке и стал смотреть на девушек.
– Ты только не балуй, – говорили ему.