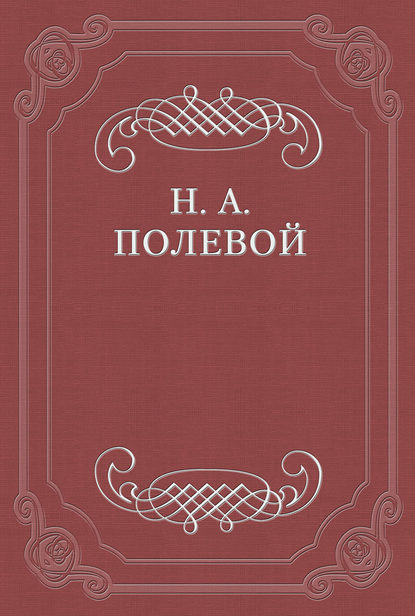По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иоанн Цимисхий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мой добрый, почтенный гость, – сказал Афанас, встречая Цимисхия, сколько можно было ласковее встретить, при вечно угрюмом лице Афанасовом, – будь здрав! Да благословит тебя Бог под смиренным кровом моим!
«Старый товарищ ратного поля! – отвечал Цимисхий, пожимая руку Афанаса. – Приношу усердное желание добра дому твоему и тебе!»
– Ты не забыл меня, почтенный доместик.
«Могу ль забыть того, с кем соединяет меня теперь одинакое желание мщения нашему оскорбителю!»
– Благодарю друга моего Порфирия, что он умел найти путь к сердцу твоему. Но, войдем, почтенный доместик, в эту комнату…
И они вступили в небольшую комнату, великолепно убранную. Небольшой стол находился посредине ее. Несколько свеч горело на столе, и ярко отражался свет их на мраморных стенах комнаты. Афанас придвинул три небольших седалища к столу. Цимисхий занял одно; с двух других сторон поместились Афанас и Порфирий.
– Ты находишься теперь в том месте, почтенный доместик, где столь много и столь долго обдумывал я план нашего предприятия, в котором угодно тебе взять участие. Надобно ли говорить тебе, что благородная и великая мысль – отмстить за унижение того, что некогда составляло честь Царьграда, с чем таинственно соединена судьба его – что только эта великая мысль одушевляла меня? Последнее безрассудное покушение Никифора довершило нашу решимость…
«Прибавь одно ж, почтенный Афанас, и то личное оскорбление, какое нанес тебе сей самовластный повелитель близ стен Тарсийских…»
– Да, я не забыл и этого…
«Меня, почтенный Афанас, побуждает также не одно личное мщение, но честь, поруганная честь знаменитых людей и благоденствие моих соотечественников. Чрезмерные подати, какими обременил Никифор народ, совершая безрассудные войны в Сицилии и в Аравии; жадная скупость его и корыстолюбие брата его, этого ненавистного Льва Куропалата… Но что говорить! Спроси, остался ли кто-нибудь в Царьграде доволен правлением Никифора и даже его победами, бесплодными и безрассудными? Самое небо не показывает ли нам ниспосылаемыми от него казнями и бедствиями, что нет благословения на государствовании нашего тирана.»
Цимисхий явился здесь с тем же открытым, оживленным лицом, какое всегда удивляло других своею благородною красотою и доблестью. Но теперь он был еще необыкновенно любезен, свободен, откровенен и не щадил дара красноречия, которым щедро наградила его природа. Казалось, что самая угрюмость Афанаса рассеивалась от его оживленных взоров, от его живых речей. Дружеский, откровенный разговор был начат и продолжаем с жаром.
– Может быть, вам, мои почтенные друзья, не вполне известны подробности того оскорбления, какое нанес мне презорливый этот Никифор, – говорил Цимисхий. – Я расскажу вам кратко все сокровенные подробности. Вы помните то время, когда еще безумный Роман владел Царьградом, и Никифор – для чего не сознаться? – стоял на великой почести первого римского полководца. Тогда уже преступные замыслы таились в душе его, и ненависть гнездилась в его сердце против каждого, кто дерзал равняться с ним мужеством и милостью императора.
«Здесь позволь мне дополнить, чего не скажет нам скромность твоя, почтенный доместик. Никто не равнялся тогда храбростью и величием с Никифором, кроме Иоанна Цимисхия».
– Ты приписываешь мне излишнее, почтенный Афанас. Правда, я не щадил жизни в боях, но я не думал ни о честях, ни о славе. Мой веселый нрав увлекал меня к забавам и роскоши – вино, красавицы, застольная песня, право, были мне дороже всякого звания доместиков и логофетов…
«Правда, – сказал Порфирий, усмехаясь, – и говорили даже, что Иоанн Цимисхий был удостоен ласкового взора самой супруги Романовой, и я помню, как Ипподром дрожал от кликов народа, когда Цимисхий опережал в своей колеснице всех других сопротивников…»
– Ласковый взор Феофании – это сущая клевета, почтенный Порфирий, и именно эта клевета заставила меня удалиться от Двора и искать рассеяния в ратном шуме. Но там встретила меня ядовитая зависть Никифора, вечно угрюмого, вечно мрачного, всегдашнего завистника даже самому себе, скупого до того, что он готов, подобно Плавтову Скупому[244 - …подобно Плавтову Скупому – Имеется в виду Эвклион – персонаж комедии «Клад» («Золотой горшок») выдающегося римского комедиографа Плавта (ок. 250—184 до н. э.).], кричать: грабят! – видя, что дым идет из трубы его дома, готов скоблить золото с пилюль, предписанных ему медиком. Не достоинства мои, но то, что у меня собирались воины, у меня весело гремел пир в лагерной ставке моей, и не было счета друзьям моим – вот что всего более оскорбляло Никифора. Он ходил по таборам, как нищий, ханжил, молился, вздыхал – его слушались и – презирали, уважали и – не любили. Огонь и вода – вот что были мы, я и он, – и могли ль мы ужиться в одной берлоге?
«Ты скрываешь свои знаменитые подвиги».
– Положим, что так; но когда под стенами Тарса мы получили известие о смерти Романа, узнали, что Никифору препоручил он, умирая, управлять войском, а любимцу своему Иосифу Постельничему государством – божусь, ни малейшей зависти не возродилось в моем сердце. Я повиновался, не спорил, когда Никифор поехал в Царьград и передал власть над войском брату своему Льву. Разгульная жизнь, охота, битвы занимали меня. Не буду говорить о ссоре Иосифа с Никифором – вы знаете все это, знаете, что когда голос патриарха, вельмож, императрицы оправдал Никифора, он с торжеством приехал опять к войску – я щитом моим заслонил его от убийцы, который был подослан и готов был поразить его. Что же оказалось следствием? Никифор бесстыдно обвинил меня в умысле, будто бы я затеял ту примерную битву, где был поражен копьем единственный сын его, юный Вард, – я, когда три дня не осушал я слез о несчастной кончине этого прекрасного юноши, когда в то же время сердце мое было растерзано скорбию о потере супруги моей…
Цимисхий казался растроганным. Он помолчал с минуту и продолжал спокойнее: «Но что о прошедшем – обращаюсь к ненавистному Никифору. Покорностью отвечал я на все упреки и угрозы его, и вскоре письмо от Иосифа передало мне в руки судьбу его. Иосиф предлагал мне престол и руку Феофании, если я приму начальство над многочисленными врагами Никифора и передам Никифора в его руки – гибель соперника зависела от одного моего слова…»
Помню, как теперь, когда ночью отправился я немедленно к нему. Он был нездоров, лежал на одре своем и едва увидел меня вошедшего, как схватил кинжал и готов был поразить меня… человек бессовестный! «Ты спишь, – сказал я ему, – спишь крепче Эндимиона[245 - …спишь крепче Эндимиона – Эндимион – в греческой мифологии прекрасный юноша, возлюбленный богини Луны Селены, которому – по одной версии Зевс, по другой сама Селена – даровали бессмертие, погрузив в вечный, непробудный сон.], а смерть и измена скитаются окрест тебя. Подлый царедворец преклонил уже на сторону свою многих, и славный вождь римлян должен пасть по слову ничтожного стража гинекеев». Я вынул письмо Иосифа и отдал Никифору. Он прочитал, побледнел – стыд и совесть терзали его… «Говори, муж великодушный, что должны мы делать?» – воскликнул он. «Ты спрашиваешь меня, – отвечал я, – и не знаешь сам! Вели немедленно схватить заговорщиков, а завтра я первый воскликну: „Да здравствует император Никифор!“ Малодушный – робко, нерешительно колебался он. Я оставил его шатер; через час все заговорщики были уже в кандалах по моему повелению, и едва солнце осветило табор, воины, под начальством моим, окружили ставку Никифора, и клики их гремели от одного конца табора до другого – „Многия лета императору Никифору“. Мне отвратительно вспомнить о тогдашнем его притворстве, о том, как отговаривался, робел он, о том, как плакал он даже, умоляя избавить его от тяжести венца – сердце мое отворотилось от лицемера – теперь он привык, кажется, к этой тяжести… Посмотрели бы вы, как хорошо играет он роль великого повелителя на своем золотокованном троне… И мне, мне, своему спасителю, тому, кто мог схватить скипетр, вместе с его головою, заплатил он потом изгнанием, удалением… И меня теперь призвал он перед трон свой еще для большего позора, как бедного раба – мне, при всем Дворе, осмелился говорить, что прощает меня из милости и великодушия, по просьбе своей прекрасной супруги – его супруги!.. Подал ли я повод к такому оскорблению хоть единою жалобою, хоть малым ропотом на его несправедливость?.. О, это нестерпимо!»
– Верю твоему негодованию и гневу, почтенный Иоанн, и – важный вопрос предстоит теперь решению нашему. Скажи: кому престол царьградский, когда будет низвергнут Никифор?
«Почтенный Афанас! пусть тогда решает голос народа, патриарха, ваш голос, синих и зеленых… Разумеется, что малолетние дети Романа и мать их не могут править государством…»
– Кого же ты думаешь изберет голос отечества?
«Я… я не знаю, почтенный Афанас…»
– Не потребно ли быть властителем тому, кто был всегда равен мужеством Никифору, но превосходил его доблестью, великодушием, щедростью…
«Решение трудно».
– Нет, не трудно, когда есть человек, который мог взять скипетр сам и отдал его Никифору: ему достоит быть владыкою Царьграда!
«Я не понимаю тебя, почтенный Афанас?»
И Порфирий с изумлением смотрел на Афанаса.
– Ты поймешь, когда я назову перед тобою будущего императора царьградского, когда я первый придам к имени его титул властителя Царьграда. Его зовут: Иоанн Цимисхий! – воскликнул Афанас, вставая с места и поднимая руку.
Это восклицание, казалось, не произвело никакого действия над Порфирием и над Цимисхием. Порфирий мрачно потупил глаза, а Цимисхий невнимательно облокотился на стол и молчал.
– Что же молчишь ты, Порфирий?
«Я думал о том, что голос мой тогда только присоединится к голосу твоему, когда Иоанн подтвердит все наши права, согласится на все наши условия».
– Только тогда, говоришь ты? Но великодушие и доблесть Иоанна ручаются нам за все, без договоров. И ты молчишь, Иоанн?
«Молчу, и признаться ли? Никогда не желал бы я повелевать царством – чувствую, что я не рожден к тому – не мне соображать дела государственные, привыкшему к лени и роскоши – меня увлечет первый коварный советник, меня обольстит первая красавица…»
– О! – воскликнул Афанас, – уже одна скромность твоя достойна венца императорского! Иоанн, Порфирий! укрепим союз наш дружескою чашею.
Он встал и тронул подножие одного столба. Раздался звонок. Пока стоял Афанас отворотясь, а Порфирий сидел задумчиво, быстро пробежали взоры Цимисхия по всей комнате; но он не переменял своего положения и сидел по-прежнему беспечно, облокотясь на стол.
Вошел черный невольник. «Вина, лучшего хиоского вина, – сказал ему Афанас, – три чаши, и одну из них с яхонтом!»
Невольник вышел. Цимисхий улыбнулся. «Вот доказательство тебе, почтенный Афанас, какой плохой император буду я. Знаешь ли, что пришло мне в голову теперь, когда среди важных разговоров наших ты велел принести вина?»
– Не то ли, что по слову святого Писания: вино веселит сердце человека, и уже одна мысль об нем заставляет улыбаться?
«Нет! мне пришла в голову огромная книга, которую покойник-дедушка наших императоров велел составить премудрому Кассиану Схоластику…».
– Я не охотник до книг и худо понимаю книжные вздоры.
«И я также, но от скуки иногда перебираю бредни наших мудрецов, и „?????????“ премудрого Кассиана Схоластика заставляла меня не однажды смеяться. Чего не найдешь в ней! Искусство разводить голубей, птиц, рыб, садить виноград, делать масло, вино. И премудрые наставления Кассиана суть доказательства, как полезно учение. Ты не читал его книги, почтенный Афанас, и верно не знаешь, например, тайны, как можно пить и не быть пьяну?»
– Меньше пить, думаю.
«Что ж это за искусство! Нет – пей, сколько хочешь, и никогда не будешь пьян при наставлении Кассиана».
– Нельзя ли научить меня такой драгоценной тайне? – сказал Афанас, улыбаясь.
«Безделица! Стоит только, принявшись за первую чашу, произнести 170-й стих из VIII книги „Илиады“:
Трижды Зевес загремел с высоты Олимпа!»
Все засмеялись.
Невольник вошел с подносом, на котором стояли большие три золотые чаши. На крышке одной из них стоял дорогой яхонт. Невольник поставил поднос на стол и удалился.