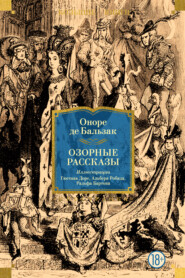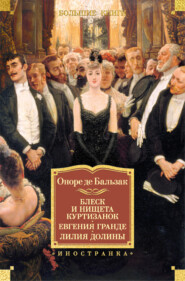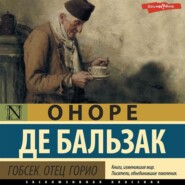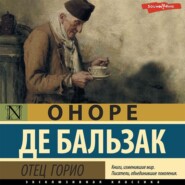По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Геранда – один из городков, где наиболее верно сохранился дух феодализма. Самое его имя должно пробудить тысячу воспоминаний у художников, артистов и мыслителей и вообще у всех туристов, когда-либо посетивших этот городок, этот перл феодальных времен, властвовавший над морем и заливом с вершины холма, по склонам которого расположены не менее интересные для наблюдателя – Круазиг и местечко Батц. После Геранды разве только Витре, находящийся в центре Бретани, и Авиньон на юге сохранили в полной неприкосновенности свой средневековый вид. Геранда и до наших дней окружена крепкими стенами: ее рвы полны водою, зубцы стен все целы, бойницы не закрыты деревьями, квадратные и круглые башни не перевиты плющом. Сохранились и трое ворот с кольцами от опускных решеток; войти в город нельзя иначе, как через подъемный мост из дерева, скрепленного железом: мост больше не поднимается, но его можно было бы поднять. Городская мэрия получила выговор за то, что в 1820 г. насадила тополей вдоль водоотводных каналов, чтобы гуляющие могли пользоваться тенью. Мэрия возразила на это, что вот уже целое столетие, как длинная, красивая площадь около дюн, где находятся укрепления, усаженная рядом тенистых вязов, обращена в место прогулки, излюбленное всеми городскими жителями. Дома в этой части города ни на йоту не изменили своего старинного первоначального вида: они и не увеличились и не уменьшились. Ни один дом не ощутил на своем фасаде молотка архитектора или кисти маляра, ни один не почувствовал тяжести надстроенного этажа. Все они сохранили свой первобытный вид.
Некоторые дома подперты деревянными столбами, образующими галерею, по которым проходят жители и доски которых гнутся, но не ломаются. Дома купцов все очень низки и малы, с черепичными фасадами. На окнах уцелели рельефные украшения из перегнившего дерева, и местами еще видны какие-то уродливые фигуры людей и фантастических животных, которые когда-то волшебной силой искусства дышали полной жизненностью. Эти уцелевшие остатки старины особенно должны нравиться художникам своими темными красками и полуизгладившимися очертаниями. Улицы остались такими же, как и четыреста лет тому назад. Но так как число жителей не велико и общественная жизнь мало заметна, то, если бы какой-нибудь турист полюбопытствовал осмотреть этот город, прекрасный, как старинное вооружение, то ему пришлось бы в грустном одиночестве ходить по пустынной улице, где часто в домах попадаются окна, замазанные глиной во избежание лишнего налога. Эта улица ведет к выходу из города, где теперь возвышается стена и где живописно раскинулась группа деревьев, насаженных рукой богатой бретонской флоры: редко где можно встретить во Франции подобную разнообразную и роскошную растительность, как в Бретани. Поэт или художник, случайно занесенный судьбой в эти места, наверное, долго просидел бы здесь, наслаждаясь безмятежным покоем, царящим под этими сводами, куда не долетает никакого шума из тихого городка; бойницы, где в былые времена помещались стрелки, теперь имеют вид окошечек-бельведеров, с чудным видом на окрестности. Гуляя по городу, нельзя не перенестись мысленно к обычаям и правам старины: сами камни говорят вам о ней, а много старинных воззрений уцелело и до наших дней. Появление здесь жандарма в обшитой галуном шапке покажется вам своего рода анахронизмом, неприятно поражающим ваш взгляд; но здесь редко можно встретить лица и вещи современного нам мира. Жители избегают даже современной одежды и выбирают из нее только то, что гармонирует, с их застывшим бытом и неподвижностью. На рынках можно встретить бретонцев в оригинальных местных одеждах, ради которых сюда нарочно приезжают художники. Белая холщевая одежда рабочих, добывающих соль из солончаковых болот, представляет резкий контраст с синими и коричневыми куртками крестьян и с оригинальными старинными головными уборами женщин. Тут же толкаются и моряки в матросских и круглых лакированных шляпах: все эти слои общества здесь так же строго разграничены между собой, как индийские касты, так что здесь еще уцелело разделение жителей на три класса: на горожан, дворян и духовенство. Революция не могла осилить эти старинные, плотно вкоренившиеся традиции, быть может, потому, что здешние жители точно окаменели в своем развитии; здесь природа оделила людей такой же неспособностью к видоизменяемости, какую мы видим в царстве животных. Даже после революции 1830 г., Геранда продолжала представлять совершенно особенный город, с ярким отпечатком национальных, бретонских черт, город крайне благочестивый, молчаливый, сосредоточенный, точно застывший в своей неподвижности и мало знакомый с новыми веяниями.
Географическое положение Геранды объясняет причину этого явления. Красивый городок этот расположен среди обширных солончаковых болот, так что добываемая здесь соль называется в Бретани солью Геранды. Бретонцы гордятся ее высоким качеством и уверяют, что только благодаря ее достоинству их масло и сардины пользуются такой известностью. Геранда соединяется с Францией только двумя дорогами – одна ведет в уездный город Савене и проходит мимо С.-Назера; другая ведет в Ванн и соединяет Геранду с Морбиганом. Первый способ сообщения – сухопутный – ведет в Нант, но пользуется им только администрация; самый же скорый и общеупотребительный способ передвижения от С.-Назера до Нанта – морем. Но между С.-Назером и Герандой, по крайней мере, шесть лье и не ходят почтовые дилижансы, потому что едва ли наберется три пассажира в год. С.-Назер отделен от Пембефа устьем Луары, имеющей здесь четыре лье в ширину. Песчаная мель очень затрудняет движение пароходов, и к тому же в 1829 г. у С.-Назера не было пристани. Так что, благодаря острым утесам, гранитным рифам и огромным камням, которые представляют естественные укрепления для находящейся здесь живописной церкви, путешественники принуждены были подплывать к берегу в бурную погоду на лодках, а в хорошую – пробираться между свалами до мола, который тогда еще только строился. Быть может, все эти препятствия, конечно, вовсе не располагавшие случайных туристов к подобным экскурсиям, существуют и до сих пор. Во-первых, администрация очень медлительна в своих действиях, а во-вторых, жители этого клочка земли, выступающего мысом на карте Франции и простирающегося от С.-Назера до городков Батца и Круазига, даже довольны этими неудобствами, потому что, благодаря им, страна их защищена от вторжения иностранцев. Геранда – крайний пункт этой территории, и так как из нее ехать дальше некуда, то в нее никто и не ездит, так что этот городок, счастливый своей неизвестностью, поглощен исключительно своими интересами. Центр соляного промысла, одни пошлины с которого дают казне не менее миллиона франков дохода, находится в Круазиге, который лежит на полуострове. Отсюда можно поехать в Геранду или по сыпучим пескам, которые ночью заносят следы, оставленные днем, или на лодках по морскому заливу, который служит портом для Круазига и нередко затопляет пески. Этот живописный городок представляет собой своего рода Геркуланум феодальных времен с тою только разницей, что он не был погребен под лавой. Он продолжает стоять, хотя жизни в нем нет, и если он еще существует, то только потому, что никто его не разрушил. Проезжая в Геранду через Круазиг, мимо солончаковых болот, невольно поражаешься видом грандиозных каменных построек, еще совершенно не тронутых временем. Красота местоположения и наивная прелесть окрестностей со стороны С.-Назера очаровывают взгляд. Кругом расстилаются чудные, красивые места, изгороди пестреют цветами, жимолостью, буксом, шиповником и другими красивыми растениями – настоящий английский сад, распланированный гениальным художником. Эта богатая девственная природа вдруг открывается перед вами и радует взор, точно букет цветущих ландышей или фиалок, неожиданно открытый вами в глухой лесной чаще. Красота вида особенно выигрывает оттого, что кругом расстилается Африканская пустыня, а за ней – океан; кругом – голая, без всякого признака растительности, бесконечная пустыня, где не слышно пения птиц, где в солнечные дни рабочие, добывающие соль, похожи в своих белых одеждах на арабов, закутанных в бурнусы. Вообще Геранда представляет собой нечто невиданное туристами во Франции по контрасту своего живописного местоположения с расстилающейся рядом мертвой пустыней, от Круазига до Батца. Такая резкая перемена в природе поражает зрителя. Сам город производит крайне мирное, приятное впечатление: он молчалив, как Венеция. Здесь вы не встретите других экипажей, кроме тележки почтальона, который перевозит пассажиров и доставляет покупки и корреспонденцию из С.-Назера в Геранду и обратно. Почтальон Бернус был в 1829 г. доверенным лицом всего округа: все его знали и давали ему всевозможные поручения. Здесь считалось целым событием, если мимо проедет экипаж: какая-нибудь женщина проездом через Геранду в Круазиг, или больные, едущие на морские купанья, которые своими целебными свойствами значительно превосходят морские купанья в Болонье, Диеппе и Сабли.
Крестьяне ездят исключительно верхом и в дорогу запасаются едой в мешке. Они, как и рабочие, приезжают в город за покупкой разных украшений, которые получает в подарок каждая бретонская невеста, или за холстом и сукном. На десять лье в окружности Геранда все та же некогда славная Геранда, где был заключен известный в истории договор, она – береговой центр, где, как и в Батце, доселе сохранились некоторые остатки былого величия. Украшения, сукно, холст, ленты, шляпы – изготовляются вовсе не здесь, но обыватели продолжают думать, что все это идет из Геранды. Проезжая по городу, всякий художник и даже простой смертный невольно принимается мечтать, подобно тем, кому удалось повидать Венецию, мечтать о том, как бы хорошо было мирно докончить здесь свое существование среди полного покоя, довольствуясь прогулкой по городской площади от одних ворот до других. Временами древний образ Геранды снова встает в вашем воображении: увенчанная башнями, опоясанная стенами, она красуется в своем роскошном одеянии, усыпанном чудными цветами, потрясая золотой мантией дюн; она вся точно дышит опьяняющим ароматом лесных, цветущих тропинок, она овладевает вашим воображением и манит к себе, точно какая-нибудь таинственная красавица, которую вы встретили в далекой стране и чей образ с тех пор царит в вашем сердце.
Около церкви в Геранде есть дом, который составляет для города то же, что город для всей страны, то есть он представляет точное воспроизведение минувшей эпохи, он есть символ утерянного величия, поэзия старины. Дом этот принадлежит одной знатнейшей местной фамилии де Гуэзник, которая некогда богатством и древностью рода настолько же была выше дю Гекленов, насколько троянцы превосходили в этом отношении римлян. Фамилия дю Гекленов произошла от де Гуэзник через последовательное изменение орфографии этого имени. Гуэзники, древние как бретонский гранит, не были ни франками, ни галлами, они бретонцы или, еще вернее, кельты. Некогда они наверно были друидами; сбирали омелу в священных рощах и совершали на древних жертвенниках человеческие жертвы. Но бесполезно перечислять, чем они были раньше. Эта фамилия, пренебрегшая княжеским титулом, по знатности равняется Роганам и встречается в истории гораздо раньше предков Гуго Капета; потомки этого никогда не вступавшего в брачные союзы с другими не родственными домами владеют теперь приблизительно двумя тысячами ливров годового дохода, домом в Геранде и небольшим родовым замком. Все земли, принадлежащие этому первому бретонскому роду, заложены фермерам и приносят, несмотря на далеко не образцовую обработку, приблизительно до шестидесяти тысяч ливров. Гуэзники номинально считаются владельцами этих земель, но, не будучи в состоянии возвратить капитала, переданного двести лет тому назад в их руки арендаторами земель, они не пользуются доходами. Они находятся в положении французского королевского дома с его кредиторами до 1789 года. Где и когда бароны де Гуэзники найдут данный им когда-то миллион? До 1789 года замок Гуэзников получал от своих ленников до пятидесяти тысяч ливров, но Национальное собрание декретом уничтожило право владельцев взимать подати со своих крестьян.
При таком положении дел, представители этого доблестного рода, утратившего теперь всякое значение, стали бы в Париже мишенью для насмешек, здесь же они служат представителями всей Бретани и напоминают бретонцам славное прошлое их страны. Барон де Гуэзник по-прежнему считается одним из главнейших баронов Франции, выше которого нет никого, кроме короля. Теперь фамилия Гуэзников, имевшая огромное значение в истории, известна только бретонцам: сведения о ней можно получить в Шуанах или Бретань в 1799 г., правописание этой фамилии подвергалось разным изменениям, исказившим ее, как и фамилию Гекленов. Теперь сборщик податей пишет ее, как и все: Геник.
В глубине темного и сырого переулка, между заборами соседних домов, виднеется арка ворот, как раз настолько широких и высоких, чтобы в них мог свободно въехать всадник: обстоятельство, указывающее на то, что постройка эта относится еще к той эпохе, когда экипажей не существовало. Арка, поддерживаемая двумя столбами, вся гранитная. Ворота из потрескавшегося дуба усеяны огромными гвоздями, составляющими разные геометрические фигуры. На гранитной арке изображен герб де Гуэзников, настолько хорошо сохранившийся, что можно подумать, что он только что вышел из рук скульптора. Щит этого герба привел бы в восторг знатока геральдики своей простотой, в которой сказалась древность и фамильная гордость этого рода. Герб остался все в том же виде, как и во время крестовых походов, когда христиане придумали себе разные аллегорические рисунки для того, чтобы легче отличать своих. Гуэзники ничего не изменили и ничего не выкинули из своего герба, он остался так же неизменен, как и герб французского королевского дома, который в искаженном и сокращенном виде можно еще встретить на гербах старинных дворянских фамилий. Вот герб Гуэзников в том виде, как его можно видеть в Геранде: на красном фоне рука, в горностае, держит острую, длинную серебряную шпагу, а над этим грозный девиз: «Действуй!» Разве такой герб не чудо красоты? Над щитом изображена баронская корона, усыпанная жемчугом; блестящие украшения герба почти полностью сохранились до сих пор. Художник придал руке необыкновенно горделивый и энергичный взмах. Как смело и мужественно держит она шпагу, с которой так часто приходилось иметь дело де Гуэзникам! Если вам случится быть в Геранде после того, как вы прочтете этот рассказ, то вы, наверное, не будете в состоянии смотреть на этот герб без некоторого душевного волнения. Да и самый ярый республиканец был бы тронут той верностью, тем величием и благородством, какими отличались все члены этой фамилии. Де Гуэзники много совершили великих дел в прошедшем и всегда готовы совершать их и в будущем. Действовать – вот славный девиз рыцарства. «Ты хорошо действовал на войне», – говаривал, бывало, верховный коннетабль, знаменитый дю Геклен, изгнавший англичан из Франции. Подобно тому, как в полной целости сохранился герб, благодаря предохранившему его выступу арки, так и самый девиз герба свято и ненарушимо сохраняется членами этой фамилии. В открытые ворота виден довольно большой двор, направо находятся конюшни, налево – кухня. Весь дом сложен из каменных плит от подвалов до чердака. Фасад со стороны двора имеет каменное крыльцо с двойным рядом перил; на площадке еще виднеются полустертые скульптурные украшения, в которых опытный глаз увидал бы изображение той же руки со шпагой. Под этим красивым крыльцом, украшенным поломанной кое-где резьбой, была ниша, где помещалась цепная собака; перила, растрескавшиеся от времени, покрылись мхом и цветочками, точно так же, как, и покривившиеся, но не утратившие своей прочности ступеньки. Входная дверь очень красива и, насколько можно теперь судить, произведение художника венецианской школы XIII века. В ней замечается какое-то странное смешение византийского и мавританского стилей. Над ней находится выпуклый выступ, покрытый розовыми, желтыми, голубыми или темными цветами, смотря по сезону. Дубовая дверь ведет в большую залу, в глубине которой находится дверь с таким же крыльцом, но спускающимся уже в сад. Зала эта удивительно сохранилась. Панели ее – каштанового дерева; стены покрыты великолепной испанской кожей с рельефными фигурами, позолота кое-где потрескалась и покраснела от времени. Потолок сложен из красиво вызолоченных и раскрашенных досок. Позолота на них едва заметна, но краски еще уцелели. Очень возможно, что если бы тщательно смыть накопившуюся грязь, то на потолке оказалась бы чудная живопись, подновленная, по всем вероятиям, в царствование Людовика XI, как в Туре, в доме Тристана. Камин – огромных размеров с таким вместительным очагом, что в него сразу можно было положить чуть не сажень дров. Зальная мебель вся дубовая с фамильным гербом на спинках. По стенам развешаны три английских ружья, одинаково пригодных и для охоты и для войны, три сабли и рыболовные и охотничьи принадлежности.
Рядом находится столовая, сообщающаяся с кухней посредством дверки, проделанной в угловой башенке: в фасаде дома, выходящем на двор, этой башенке соответствует такая же башенка с винтовой лестницей, ведущей в верхние этажи. Столовая обита ткаными шпалерами XIV века, о чем свидетельствует стиль и орфография надписей под изображенными фигурами: надписи же непереводимы, благодаря их старинному слогу. Обои хорошо сохранились в тех местах, куда свет мало проникает; они окружены папелью из дуба с инкрустациями; дуб от времени совершенно потемнел. Потолок сложен из выпуклых бревен с различными украшениями; пространство между бревнами занято окрашенными в голубой цвет досками с золотыми гирляндами. В столовой стоят два буфета для посуды. На полках, за образцовой чистотой которых особенно следит кухарка Мариотта, стоят, как и в те времена, когда короли в 1200 г. были так же бедны, как де Гуэзники в 1830 г., четыре старых серебряных бокала, такая же погнутая суповая чашка и две солонки; затем масса оловянных тарелок, множество каменных голубовато-серых горшков с украшениями в виде арабесок и с гербом де Гуэзников: все это прикрыто оловянной крышкой. Камин, по-видимому, подновлен, и вообще по всему видно, что, начиная с предыдущего века, в этой комнате всего чаще сидят члены семейства. Камин, в стиле Людовика XY, выделан из камня со скульптурными украшениями и посредине его помещается зеркало в золоченой рамке: последнее обстоятельство, наверное, покоробило бы художника. Подзеркальник обит красным бархатом и на нем стоят два оригинальных серебряных канделябра и черепаховые часы с медными инкрустациями. Посередине комнаты находится большой квадратный стол с витыми ножками. Стулья деревянные, обитые материей. На круглом столике на одной ножке, имеющем форму виноградной кисти и стоящем у окна, помещается оригинальная лампа. Она состоит из стеклянного шара, размером немного меньше страусиного яйца; острый, длинный конец его входит в подставку. Из верхнего отверстия между двумя медными желобками выходит плоский фитиль, нижний конец которого, согнутый подобно стеблю в бокале, плавает в ореховом масле, наполняющем резервуар. В комнате два окна: одно выходит в сад, а другое, напротив него, на двор, и оба обложены каменными плитами; в окна вставлены шестигранные стекла, крепко соединенные свинцом; над ними висят занавеси из старинной красной шелковой материи с желтым отливом, называвшейся некогда брокателью.
В каждом из двух этажей всего по две комнаты. Первый этаж занимал глава семьи, а второй предназначался для детей. Гости помещались в антресолях. Слуги ютились в чердаках над кухнями и конюшнями. По середине остроконечной крыши находилось большое окно со скульптурными украшениями, а над ним до сих пор скрипит еще флюгер.
Нельзя опустить еще одной подробности, которая имеет большое значение для археологов. По винтовой лестнице, которая находится в угловой стрельчатой башенке, можно через небольшую дверцу выйти к тому месту, где дом прикасается к каменной ограде со стороны конюшен. Такая же башенка есть и у сада, но для разнообразия она имеет пятиугольную форму и заканчивается маленькой колоколенкой. Вот как искусно варьировали тогдашние архитекторы форму построек. В первом этаже эти две башенки соединены каменной галереей, украшенной разными фигурами с человеческими лицами. Эта галерея украшена удивительно изящно сделанной балюстрадой, а на фасаде дома сделан из камня навес, вроде тех балдахинов, какие встречаются в церквах над статуями святых. В обеих башенках прорублены двери со стрельчатым кружалом, вы ходящим на галерею. Вот как украшали архитекторы XIII века фасады домов, которые у нас теперь имеют всегда такой холодный, бедный вид. Не представляете ли вы себе мысленно красавицу, которая выходила, бывало, по утрам на балкон и любовалась, как солнце золотило морской песок и играло в водах Океана? Разве не восхитителен этот фасад дома, весь покрытый скульптурой, с двумя угловыми башенками, из которых одна закруглена наверху, точно гнездо ласточки, а другая заканчивается стрельчатой дверкой, над которой изображена рука, вооруженная шпагой? Симметрия, которой тщательно придерживались архитекторы того времени, здесь соблюдена в том, что со стороны сада есть тоже башенка, вполне похожая на башенку фасада, где помещается лестница, соединяющая столовую и кухню. В первом этаже, там, где кончается лестница, сделан небольшой купол, под которым помещается статуя св. Калиста.
Сад, раскинутый на полдесятине, очень хорошо содержится. У ограды растут шпалерные деревья и разбиты гряды для овощей, за которыми ухаживает слуга по имени Гасселен: он же и конюх. В конце сада уцелела беседка со скамейкой. Дорожки посыпаны песком; в середине сада находятся солнечные часы. Со стороны сада дом имеет только одну башенку, тогда как с фасада их две, но зато здесь есть витая колонка, над которой, по всей вероятности, в былые времена развевалось фамильное знамя, потому что на верхушке колонки сохранилась заржавленная железная петля, вокруг которой теперь растет какая-то жалкая травка. Судя по всей скульптуре и по стилю колонки, можно утверждать, что архитектор принадлежал к венецианской школе: как изящна эта колонка, как ярко отразилась на ней тонкость вкуса и рыцарство Венеции XIII века. Но особенно резко видно это из общего стиля украшений на замке де Гуэзников; изображенные на стенах трилистники всюду имеют не три листа, а четыре. Произошла эта ересь оттого, что венецианцы, ведя постоянные сношения с востоком, стали применяться в принятому там мавританскими архитекторами изображению трилистника с четырьмя листиками, тогда как христианские архитекторы оставались верны символическому изображению Троицы. Глядя на такие замки, невольно спрашиваешь себя, почему бы нашим современникам не подновить все эти редкие памятники искусства? Вероятно потому, что в наше время такие замки чаще всего поступают в продажу, их срывают до основания и вместо них пролагают новые улицы. Теперь члены какой-нибудь фамилии не уверены, что их поколение сохранит за собой родовое наследие, и сами они живут в нем точно в гостинице, как временные постояльцы. Между тем в былые времена замки воздвигались для нескольких поколений, на вечные времена. От того-то так много обращали внимания на красоту архитектуры. Что касается внутреннего убранства и расположения жилых комнат, то на них всецело отражались привычки и дух обитателей.
В продолжение полувека де Гуэзники принимали только в двух комнатах верхнего этажа, где все, так же как во дворе и в наружных украшениях фасада, все дышало умом, грацией и простотой старой и благородной Бретани. Характер владетелей этого замка никогда не обрисовался бы перед вами так живо, если бы вы не ознакомились подробно с топографией города и с наружностью самого замка; поэтому-то, прежде чем приступить к описанию портретов, надо было описать их рамки. Здания оказывают иногда сильное влияние на людей. Трудно не проникнуться благоговением, вступив под своды Бургского собора: душа невольно проникается теми образами, которые окружают нас и которые напоминают ей об ее высоком Назначении. Так думали наши предки, но теперь настал иной век, когда не придают значения таким вещам, когда каждое десятилетие нравы совершенно меняются. Но если меняются люди, то окружающие их предметы остаются неизменны и, глядя на этот замок, можете ли вы себе представить барона де Гуэзника иначе как не с обнаженной шпагой в руке?
В 1836 г. в первых числах августам то время, как начинается действие нашей повести, семейство Геников состояло из г-на и г-жи дю Геник, девицы дю Геник, старшей сестры барона и единственного сына, юноши двадцати одного года Годеберта-Калиста-Луи, названного так согласно фамильному обычаю. Отца звали Годеберт-Калист-Шарль: обыкновенно меняли только последнее имя, а св. Годеберт и Калист неизменно оставались хранителями Геников. Барон дю Геник покинул Геранду, когда Вандея и Бретань взялись за оружие, и воевал вместе с Шаретзом, Кателино, ля Рошжакеленом, д’Ельбеем, Боншаном и принцем де Лудоном. Перед отъездом он продал свои поместья старшей сестре, девице Зефирине дю Геник: подобная предусмотрительность только и встречается единственный раз в летописях той эпохи. Пережив всех героев войны, барон, спасшись каким-то чудом, не захотел подчиниться Наполеону. Он продолжал воевать до 1802 г., когда едва не был захвачен, но пробрался в Геранду, оттуда в Круазиг и, наконец, в Ирландию, оставаясь верным вековой ненависти бретонцев к англичанам. Жители Геранды делали вид, что им неизвестно местопребывание барона, и никто не нарушил тайны в продолжение двадцати одного года. Девица дю Геник получала доходы и пересылала их брату через рыбаков. В 1813 году г-н дю Геник возвратился в Геранду совершенно бесшумно, как будто он только и отлучался, что на сезон в Нант. Во время своего пребывания в Дублине, старый бретонец, несмотря на свои пятьдесят лет, влюбился в прелестную ирландку, дочь благородного, но бедного рода этого несчастного королевства. Мисс Фанни О’Бриен было тогда двадцать один год. Барон дю Геник вернулся на родину за нужными для брака документами, снова уехал, обвенчался и возвратился только десять месяцев спустя в начале 1814 года уже с женой, которая одарила его сыном Калистом в самый день вступления Людовика XVIII в Калэ, благодаря чему он получил имя Луи. Старому доблестному бретонцу было тогда семьдесят три года; но партизанская война с республикой трудности морской переправы, испытанные им пять раз; наконец, жизнь в Дублине, все это сильно повлияло на него: на вид ему казалось лет сто. Никогда представитель рода дю Геников не был поэтому в такой полной гармонии со старинным замком, помнившим еще ту отдаленную эпоху, когда Геранда имела своего повелителя и приближенный к нему двор.
Г-н дю Геник был старик высокого роста, прямой, худощавый и нервный. Его овальное лицо было все изрыто бесчисленными складками морщин, особенно часто собиравшихся вокруг глаз и над бровями и придававших ему сходство со стариками кисти Ван-Остада, Рембрандта, де Миериса и Жерарда Доу, любоваться которыми надо в увеличительное стекло. Все лицо его точно скрывалось за бесчисленными бороздами, проведенными жизнью под открытым небом, привычкой быть на воздухе и при восходе, и при закате солнца. Но, тем не менее, на лице его уцелели некоторые характерные черты, которые много говорят наблюдателю, даже если он видит перед собой мертвую голову. Резкие очертания лица, форма лба, прямолинейность всех черт, прямой нос, – все в нем говорило о неустрашимой отваге, о безграничной вере, о беспрекословном повиновении, о неизменной преданности и постоянстве в любви. Он был тверд и непреклонен, как бретонский гранит. Зубов у барона не было вовсе. Его некогда красивые губы были теперь лилового цвета и прикрывали одни только крепкие десны, которыми он жевал хлеб, размоченный в мокрой салфетке его женой; но все же рот его сохранил гордое и угрожающее выражение. Подбородок почти касался горбатого носа, в котором особенно выразилась его энергия и национальное бретонское упорство. Кожа на лице была покрыта красными пятнами, признак сангвинического пылкого темперамента, не знавшего усталости в трудах, благодаря которым барон избег апоплексии. Его седые, серебристые волосы локонами рассыпались по плечам. Все лицо оживлялось огнем черных глаз, блестевших в глубине темных орбит; в них, казалось, сосредоточилась вся жизнь, весь огонь его благородной, прямой души. Брови и ресницы все выпали; кожа сморщилась и огрубела. Старику трудно было бриться, и он отпустил себе бороду веером. Но что особенно привлекло бы внимание художника в этом могучем льве Бретани – это его руки, руки бравого воина, широкие, мускулистые, обросшие волосами, такие же руки были, наверное, у дю Геклена Руки эти некогда были вооружены саблей; как Жанна д’Арк, он готов был расстаться с оружием только тогда, когда увидел бы королевское знамя развевающимся над Реймским собором. Эти руки не раз были оцарапаны до крови лесными кустарниками, не раз брались за весла, когда была погоня за Синими, или когда нужно было плыть морем на встречу Георгу; это были руки то партизана, то артиллериста, то рядового, то начальника. Теперь руки барона стали более белы и нежны, хотя старшая линия дома Бурбонов все еще оставалась в изгнании. Впрочем, если вглядеться, то по некоторым еще не зажившим шрамам можно было заключить, что барон был с королевой в Вандее – теперь уже нет смысла держать этот факт в секрете. Одним словом, руки барона служили блестящей иллюстрацией к прекрасному девизу, хранимому всеми Гениками: «Действуй!» Лоб его, с золотистым слоем загара на висках, был очень невелик, но казался больше от лысины, которая придавала ему еще более величественности. Вообще лицо его носило – и вполне естественно – отпечаток его грубой натуры и, как все бретонские лица, носило выражение дикости, какого-то животного покоя, даже некоторой тупости, вероятно, явившейся результатом полного покоя после чрезмерных трудов. Мысли редко зарождались в его мозгу; они исходили чаще из его сердца, которое и диктовало ему его поступки. Хорошо узнав характер этого типичного старца, нетрудно понять причину этого явления. Ему не было надобности соображать, как поступать, потому что известные чувства и религиозные воззрения были у него врожденные, а жизнь научила его распознавать, в чем состоит его долг. За него думали законы, религия. Он и подобные ему люди, не останавливаясь мыслями на бесполезных вещах, о которых думали за них другие, исключительно заняты были своими действиями, а не мыслями. Если же и зарождалась у них какая-нибудь мысль, то она рождалась в сердце и сохраняла незапятнанную белизну, как рука на фамильном гербе; потому-то и принятые им решения были всегда глубоки и здравы, благодаря прямым, определенным и чистым его помыслам. При таком объяснении становилась понятна продажа всей собственности сестре перед отъездом барона на войну: этой мерой он предусмотрел и свою смерть, и конфискацию земель, и изгнание. Все величие характеров брата и сестры, жившей и дышавшей только братом, трудно даже понять теперь при наших эгоистичных нравах, причина которых кроется в неопределенности и непрочности современного нам общественного строя. Если бы даже ангел заглянул в сердце барона и его сестры, то не прочел бы в них ни одной эгоистичной мысли. Когда в 1814 г. священник Геранды посоветовал барону дю Геник поехать в Париж и требовать себе награды, то старушка-сестра, отличавшаяся большой скупостью в хозяйстве, воскликнула:
– Вот еще! Разве мой брат пойдет просить себе милостыни, как нищий?
– Еще подумают, что я служил королю из корыстных целей, – сказал старик. – Ведь это его дело – вспомнить обо мне. Да ему, бедному, и без того приходится трудно от всех осаждающих его просителей. Кажется, раздай он всю Францию по кусочкам, все-таки будут его осаждать просьбами.
Через некоторое время он, этот верный слуга Людовика XVIII, получил чин полковника, крест Св. Людовика и пенсию в две тысячи франков.
– Король вспомнил! – сказал он, получая рескрипт.
Никто не вывел его из заблуждения. Всем этим он был обязан герцогу де Фельтру, просматривавшему списки вандейской армии и нашедшего там имя барона дю Геника вместе с несколькими другими бретонскими фамилиями, оканчивающимися на «ик». Желая отблагодарить короля, барон в 1815 году храбро выдерживал в Геранде осаду генерала Траво и ни за что не хотел сдаться; когда же ему пришлось очистить крепость, то он убежал в леса с отрядом королевских приверженцев и не покидал оружия до вторичного возвращения Бурбонов. Геранда помнит еще об этой последней осаде.
Если бы на помощь им пришли бретонские отряды, то встала бы вся Вандея, одушевившись таким геройским сопротивлением. Мы должны добавить, что барон дю Геник был совершенно необразован, не лучше простого крестьянина: он умел читать, писать и немного считать, знал военное искусство и геральдику, но кроме своего молитвенника он вряд ли прочел три книги за всю жизнь. Одет он был всегда очень тщательно, но всегда в одном и том же платье: на нем были толстые башмаки, валяные чулки, панталоны из зеленого бархата, суконный жилет и сюртук с большим воротником, к которому пристегивался крест Св. Людовика. Лицо его дышало мирным покоем: смерть, казалось, наложила уже на него свою печать, часто насылая на него своего младшего брата – сон.
Уже более года барон все больше и больше впадал в сонливость, что, впрочем, нисколько не беспокоило ни его жену, ни слепую сестру, ни друзей: все они почти ничего не смыслили в медицине. Они очень просто объясняли себе его сонливость, которой отдавался теперь его утомленный, но безупречный дух: барон исполнил свой долг. Этим все было сказано.
Вообще господствующим интересом в замке была судьба развенчанных монархов. Судьбы изгнанных Бурбонов и католической церкви, а также влияние политических событий на Бретань всецело поглощали внимание семьи барона. Помимо этого все интересы их были сосредоточены на единственном сыне Калисте, наследнике и единственной надежде славного дома дю Геников.
Старый вандеец, верный слуга короля, сам вспомнил свою молодость несколько лет тому назад, желая приучить сына к занятиям, необходимым для дворянина, если он хочет быть хорошим солдатом. Как только Калисту минуло шестнадцать лет, отец стал сопровождать его по болотам и лесам, знакомя его на охоте со всеми трудностями войны, во всем показывая ему сам пример, неутомимо и твердо сидя в седле и никогда не давая промаху: барон не останавливался ни перед какими препятствиями и сам наводил сына на опасность, как будто у него было еще человек десять детей, а не единственный сын. Когда герцогиня Беррийская приехала во Францию, чтобы завладеть короной, отец взял с собой сына, чтобы приучить его к делу, как требовал их девиз. Барон уехал ночью, ничего не сказав жене, которая, пожалуй, заставила бы его изменить свое решение, и как на праздник повез под огонь своего единственного сына, а за ним радостно мчался Гасселен, его единственный вассал. Шесть месяцев не давали они о себе никакой вести ни баронессе, со страхом приступавшей к чтению «Ежедневника», ни сестре, геройски скрывавшей свое волнение под маской равнодушия. Три ружья, висевшие в большой зале, сослужили поэтому свою службу относительно недавно. Барон, увидев, что из этого дела ничего не выйдет, удалился до сражения при Пениссьере; не поступи он так, очень может быть, что род дю Геников прекратился бы в настоящее время.
Когда бурною ночью отец с сыном и слугой вернулись к себе домой неожиданно для баронессы и старой девицы дю Геник, которая своим тонким, как у всех слепых, слухом первая различила их шаги по улице, то барон, окинув взглядом своих домашних, которые, еще не оправившись от тревоги, собрались около маленького столика, освещенного старинной лампой, произнес дрожащим голосом следующие слова, в которых сказалась вся наивность феодала: «Не все бароны исполнили свой долг». Гасселен в это время вешал на место три ружья и сабли. Когда это было исполнено, барон поцеловал свою жену и сестру, сел в свое истертое кресло и велел подать ужин себе, сыну и Гасселену. Гасселен, закрыв своим телом Калиста, получил рану в плечо: поступок этот казался всем настолько естественным, что дамы почти и не благодарили верного слугу. Ни барон, ни все его домашние не произнесли ни одного проклятия, никакой брани по адресу победителей. Эта сдержанность составляет отличительную черту бретонского характера. За все сорок лет, ни разу никто не услыхал из уст барона какого-нибудь презрительного слова о его противниках. Они служили своему делу, как он своему долгу. Такое глубокое молчание служит всегда признаком непреклонной воли. Но это последнее напряжение сил, этот последний проблеск энергии окончательно отнял все силы у барона, и он впал в расслабленное состояние. В душе его тяжело и больно отозвалось вторичное изгнание Бурбонов, столь же неожиданное, как и их реставрация.
В тот день, как начинается наш рассказ, барон, пообедав в четыре часа, к шести часам заснул, слушая чтение «Ежедневника». Голова его была откинута на спинку кресла, стоявшего в углу у камина и повернутого в сторону сада.
Рядом с ним, этим старым вековым дубом, сидела баронесса – тип тех чудных женщин, каких только и можно увидать в Англии, Шотландии и Ирландии. Только там родятся такие красавицы, белые, розовые, с золотистыми вьющимися волосами, над которыми точно сияет лучезарный венец. Фанни О’Бриен имела вид совершенной сильфиды и хотя умела быть твердой в минуту горести, но была полна нежности и гармонии, чиста, как лазурь ее глаз и вся дышала той изящной и обаятельной прелестью, которую нельзя передать ни словами, ни кистью. В сорок два года она еще настолько сохранила красоту, что многие почли бы за счастье жениться на ней – так походила она на зрелый, сочный плод, налившийся под жарким августовским солнцем. Баронесса держала газету в своей пухлой ручке с тонкими пальцами, кончавшимися продолговатыми ногтями той формы, которая встречается на античных статуях. Полуразвалившись в кресле с непринужденной грацией, баронесса грела перед камином ножки; одета она была в черное бархатное платье, потому что уже несколько дней было довольно свежо. Высокий корсаж позволял угадать роскошные очертания плеч и бюста, который сохранил всю свою красоту, несмотря на то, что она сама кормила сына. Причесана она была по английской моде с локонами по обе стороны лица. На затылке волосы были скручены в большой узел с черепаховым гребнем посередине. Цвет ее волос отливал на солнце золотом. Баронесса заплетала в косу развевающиеся завитки волос на затылке, которые всегда служат признаком хорошей расы. Эта маленькая коса, терявшаяся в общей массе высоко зачесанных волос, позволяла любоваться красивой волнообразной линией ее шеи. Эта маленькая подробность показывает, что она тщательно заботилась о своем туалете, желая этим доставить удовольствие старику.
Какое милое, нежное внимание! Если вы видите женщину, которая кокетлива в домашней жизни, знайте, что перед вами достойная уважения мать и супруга: она составляет свет и радость дома и семьи, она поняла истинную прелесть женственности и, окруженная изяществом, она и в душе, и в чувствах таит то же изящество; она живет и творит добро в тайне, она отдается, не рассчитывая, она любит своих ближних так же бескорыстно, как и Бога. За все это, за всю свою чистую молодость, за ту святую жизнь, которую она вела около благородного старца, казалось, св. Дева, под чьим покровом протекали ее дни, наделила ее какой-то лучезарной красой, перед которой была бессильна рука времени. Платон назвал бы некоторое изменение в ее красоте только новым видом красоты. Цвет лица ее, белоснежный в молодости, теперь принял перламутровые тона, более теплые, более густые, такие, которые особенно ценят художники. На широком, красивом лбу нежно играли солнечные лучи. Глаза ее были бирюзового цвета и сияли мягким, меланхоличным светом из-под ресниц и красивых бархатных бровей. Под глазами лежала легкая тень от синеватых жилок. Нос ее, орлиный, тоненький, своей царственной формой говорил об ее благородном происхождении. На ее прекрасных, чистых устах играла приятная улыбка, выражавшая ее безграничную доброту и открывавшая маленькие, беленькие зубки. Хотя баронесса была довольно полна, но от этого нисколько не пострадала тонкость ее талии и стройные очертания бедер. В ней, казалось, соединился полный расцвет осенней красоты с богатством лета и прелестью весны. Контуры ее рук были красиво закруглены; кожа была необыкновенно гладкая и упругая. Все лицо ее, с открытым безмятежным выражением, с ясными, синими глазами, которые не могли бы выдержать нескромного взгляда – все в ней говорило об ее бесконечной кротости и почти ангельской доброте.
По другую сторону камина сидела в кресле восьмидесятилетняя сестра барона, вылитый его портрет, и слушала чтенье газеты, не переставая вязать чулки, единственную работу, какую ей дозволяла делать слепота. На глазах у нее были бельма, но, несмотря на упорные настояния невестки, она ни за что не хотела согласиться на операцию. Никто, кроме нее самой, не знал истинной причины ее упорства: она сваливала всю вину на недостаток мужества, но в действительности ей очень не хотелось тратить на себя двадцать пять луидоров: это значило бы ввести новый расход в бюджет. Но все же ей очень бы хотелось видеть брата. Рядом с этими двумя стариками, красота баронессы выступала особенно рельефно. Да и какая женщина не казалась бы красивой и молодой между г-ном дю Геником и его сестрой? Мадемуазель Зефирина, благодаря своей слепоте, не могла судить об изменениях, которым подверглась ее наружность к восьмидесяти годам. Ее бледное, морщинистое лицо походило на мертвое; такое же страшное впечатление производили ее неподвижные белые глаза, оставшиеся три-четыре зуба выдались вперед, придавая ей какой-то зловещий вид; глаза глубоко запали и были обведены красными кругами, на подбородке и около губ пробивались седые волоски.
На голове ее красовался стеганый ситцевый чепчик с рюшем, завязанный под подбородком каким-то порыжевшим шнурком. Под платьем она носила толстую суконную юбку, в которой, как в матрасе, покоились двойные луидоры, а к поясу были пришиты внутренние карманы; пояс этот она снимала каждый вечер, чтобы на утро снова подвязать его. Поверх юбки был надет суконный казакин, национальный бретонский корсаж, который заканчивается у шеи воротником, сложенным в мелкие складочки. Из-за стирки этого воротника у нее были вечные ссоры с невесткой: ей казалось, что его довольно менять только раз в неделю. Из-под широких ватных рукавов казакина виднелись сухие, но мускулистые белые руки с красноватыми оконечностями. От постоянного вязанья пальцы ее скрючились и были вечно в движении, точно чулочно-вязальная машина, так что было бы даже странно видеть их в покое. Время от времени мадемуазель дю Геник брала длинную вязальную спицу, воткнутую на груди, и проводила ею по своим седым волосам. Со стороны было странно видеть, как уверенно, не боясь уколоться, втыкала она спицу на свое место. Пряма она была, как колокольня. В этой манере держаться сказывалось старческое кокетство, доказывавшее лишний раз, что тщеславие тоже необходимо в жизни. Улыбка у нее была веселая: она тоже исполнила свой долг в жизни.
Фанни, увидав, что барон заснул, прекратила чтение. В комнату ударил солнечный луч и, золотым снопом разделив пополам эту старинную залу, заиграл на темной мебели. Солнце проникло даже в уголки, позолотило скульптурные украшения комнаты; на старинных шкафах замелькали зайчики, дубовый стол казался покрытым золотой скатертью; вся комната, темноватая, однотонная, вдруг точно повеселела от солнца, так же, как веселела душа восьмидесятилетней старушки при звуках голоса Фанни. Между тем лучи стали из золотых красновато-огненными и, постепенно темнея, возвещали наступление сумерек. Баронесса впала в глубокую задумчивость и погрузилась в молчанье, что за последние две недели случалось с ней не раз, к удивлению золовки; хотя она и не стала допрашивать баронессу о причине этой озабоченности. Но, тем не менее, ей очень хотелось самой узнать, в чем дело, руководствуясь развитым в ней, как у всех слепых, чутьем, благодаря которому они различают белые буквы на черных страницах книги и в прозорливой душе которых всякий звук отдается правильным эхом. Старушка, для которой темнота не была помехой, продолжала вязать, и среди глубокого молчанья раздавался стук ее спиц.
– Вы уронили газету, сестра, хотя, кажется, не спите, – заметила старушка с некоторым лукавством в голосе.
Стало совсем темно, Мариотта зажгла лампу и поставила ее на квадратный стол у камина; затем она принесла прялку, моток ниток и маленькую табуретку; сев около окна, выходившего на двор, принялась прясть, как всегда по вечерам.
Гасселен возился еще во дворе, заглянул к лошадям барона и Калиста – все ли в порядке в конюшне, покормил двух великолепных охотничьих собак. Радостный лай их был последним звуком, который эхом раскатился по старому темному дому. Собаки и лошади были последними остатками великолепия рыцарских времен. Лай собак, сопровождаемый лошадиным ржаньем и топотом, удивил бы мечтателя, который, сидя на ступеньках крыльца, погрузился бы в созерцание поэтических образов, которыми, казалось, еще был полон этот замок.
Гасселен представлял собой тип маленького, толстенького, приземистого бретонца, черноволосого, с лицом темно-бурого цвета, он был очень молчалив, медлителен, упрям, как мул, но неуклонно шел по раз начертанному пути. Ему было сорок два года, а в замке он жил уже двадцать пять лет. Барышня взяла в услужение пятнадцатилетнего Гасселена, когда стала известна женитьба барона и явилось предположение, что он, может быть, вернется на родину. Этот слуга считал себя членом семьи: он играл прежде с Калистом, любил лошадей и собак, говорил с ними и ласкал их, точно они принадлежали ему. Одет он был в синюю полотняную куртку с маленькими карманами, болтавшимися около бедер; жилет и панталоны были из той же материи, на ногах были синие чулки и толстые, подкованные гвоздями башмаки. Когда было холодно или шел дождь, то он надевал на себя, по обычаю страны, козью шкуру. Мариотта, которой было тоже за сорок, представляла собой такой же тип, но женский. Трудно было найти лучшую пару для запряжки: тот же рост, тот же цвет лица, те же быстрые черные глазки. Для всех казалось непонятным, как это они не поженились; но, быть может, это было бы преступлением, до того они походили на брата с сестрой. Мариотте платили тридцать экю, а Гасселену сто ливров; но предложи ему кто-нибудь тысячу ливров, он ни за что не расстался бы с семейством дю Геников. Оба они были под командой старой барышни, которая с начала войны в Вандее и до возвращения брата правила всем домом. Узнав, что барон привезет с собой молодую хозяйку, она очень взволновалась, думая, что ей придется сложить с себя бразды правления и передать их баронессе дю Геник, а самой стать ее верноподданной.
Мадемуазель Зефирина поэтому была приятно удивлена, увидев, что мисс Фанни О’Бриен, как дочь высокопоставленных родителей, не терпела никаких домашних хлопот и, как все возвышенные души, предпочитала черствый хлеб роскошному обеду, если бы ей пришлось самой приготовить его; она готова была на все трудные обязанности материнства, на всякое лишение, но у нее не хватало мужества заниматься таким прозаичным делом, как хозяйство. Так что, когда барон от имени своей робкой супруги попросил сестру взять на себя весь дом, то старая девица поцеловала баронессу с нежностью матери. Она стала обращаться с ней, как с дочерью, боготворила ее и была вполне счастлива, что может не оставлять своих хлопот по хозяйству, которое она вела с необыкновенной строгостью и удивительной экономией, от которой отступала только в важных случаях, например, во время родов невестки, когда обращалось особенное внимание на ее питанье. Ничего не жалела она и для Калиста, которого боготворил весь дом. Хотя прислуга была приучена к строгому порядку и ни в чем нельзя ее было упрекнуть, так как оба, и Мариотта, и Гасселен, больше заботились об интересах хозяев, чем о своих собственных, мадемуазель Зефирина продолжала неутомимо смотреть за всем.
Так как все внимание ее было посвящено исключительно хозяйству, то она могла безошибочно определить одним взглядом, какой запас орехов был на чердаке, и сколько осталось овса в закромах конюшни. У пояса ее казакина висел на синем шнурке свисток: одним свистком она звала Мариотту, двумя – Гасселена. Высшим наслаждением для Гасселена было ходить за садом и разводить хорошие овощи и плоды. Дел у него было так мало, что, не будь этой работы, ему было бы скучно. Почистив утром лошадей, он натирал полы и убирал две комнаты первого этажа: около своих хозяев дел у него было мало. Но зато в саду нельзя было увидать ни одной сорной травки, ни одного вредного насекомого или зверька. Иногда он долго стоял под солнцем с открытой головой, подкарауливая полевую мышь или отыскивая личинку майского жука, и с какой детской радостью бежал он затем показать своим господам зверька, которого он подстерегал целую неделю. Для него было также большое удовольствие ходить в постные дни за рыбой в Круазиг, где она была дешевле, чем в Геранде. Вообще едва ли можно было еще где встретить такую единодушно сплоченную семью, как это святое достойное семейство. Господа и слуги были точно созданы друг для друга. В продолжение двадцати пяти лет в доме не было ни ссоры, ни сильного волнения. Беспокойство вызывали только болезни ребенка, а ужас – только события 1814 и 1830 годов. Все здесь совершалось всегда в определенные часы и кушанья за столом только зависели от смены времен года. Но сама эта монотонность, похожая на монотонность в природе, где попеременно чередуются то дождь, то солнце, то тьма, дышала той любовью, которой были полны сердца, и тем сильнее и плодотворнее была эта любовь, что она опиралась на законы природы.
Когда совсем стемнело, в залу вошел Гасселен и почтительно осведомился, не будет ли он нужен на что-нибудь.
– Ты можешь идти со двора или, если хочешь, ложись спать после молитвы, – сказал, проснувшись, барон, – если только моя супруга или сестра…
Обе дамы в знак согласия кивнули головой. Гасселен встал на колени, видя, что господа привстали со своих мест для коленопреклонения. Мариотта, со своей стороны, также опустилась на колени. Старая девица дю Геник произнесла громким голосом вечернюю молитву. Когда она была окончена, раздался стук у наружной двери; Гасселен пошел открыть ее.
– Это, вероятно, священник, он почти всегда приходит первым, – сказала Мариотта.
И действительно, по звуку шагов по гулким ступеням крыльца все узнали священника. Войдя в комнату, он почтительно поклонился трем находившимся в ней лицам, обратившись затем к барону и к обеим дамам с елейно-любовными словами, какие умеют говорить только священники. Хозяйка дома рассеянно поздоровалась с ним, и он посмотрел на нее инквизиторским оком.
– Вы чем-то озабочены, баронесса, или, быть может, нездоровы? – спросил он.
– Благодарю вас, ничего, – отвечала она.
Г. Гримон среднего роста, ему пятьдесят лет. Одет он в черную рясу, из-под которой видны его ноги, обутые в толстые башмаки с серебряными пряжками. Из-за брыжей воротника выглядывает полное лицо, обыкновенно белое, а теперь слегка загоревшее. Руки у него пухлые. Он похож отчасти на голландского бургомистра, благодаря белому цвету лица и кожи, а отчасти напоминает бретонского крестьянина, благодаря плоским черным волосам и живым черным глазам, блеск которых он старался смягчить из уважения к своему духовному сану. Характера он был веселого и, как все люди со спокойною совестью, любил пошутить. Вообще в нем ничто не напоминало бедных, вечно беспокойных и угрюмых священников, авторитет которых обыкновенно очень слаб среди прихожан. Вместо того, чтобы быть, как говорил Наполеон, нравственными руководителями своей паствы и миротворцами, такие священники находятся с приходом в вечно враждебных отношениях. Но довольно было увидать г. Гримона шествующим по Геранде, чтобы даже самый недоверчивый турист понял, что перед ним полновластный господин этого католического городка. Но он покорно уступал первое место феодальному верховенству дю Геник и в этой зале держал себя, как капеллан вперед своим господином. В церкви, благословляя народ, он прежде всего простирал руки по направлению часовни дю Геников, где над фронтоном изображена была вооруженная рука.
– Я думал, что мадемуазель де Пен-Холь уже здесь, – сказал священник, поцеловав у баронессы руку и усаживаясь на место. – Она стала неаккуратна. Уж не заразилась ли и она легкомыслием? Вот и молодой шевалье до сих пор не вернулся от Туш.
– Не говорите ничего о его визитах к ним при мадемуазель де Пен-Холь, – тихо сказала старая девица.
– Ах, барышня, – возразила Мариотта, – разве можно всему городу запретить болтать об этом?
– А что же болтают? – спросила баронесса.
– Все – и молодые девушки, и кумушки, одним словом, все думают, что он влюблен в барышню из Туш.
– Такой молодой человек, как Калист, должен влюблять в себя, – сказал барон.