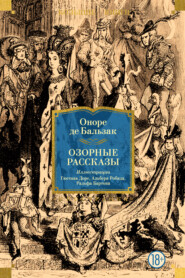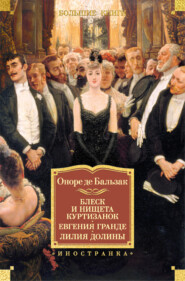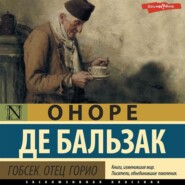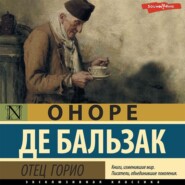По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В Бретани сразу бросается в глаза, что почти все женщины темноволосы, черноглазы и имеют темный цвет лица. Это особенно странно, потому что ничего подобного нельзя встретить в соседней с нею Англией, которая между тем находится в одинаковых с нею климатических условиях. Отчего это происходит: благодаря каким-нибудь физическим причинам или вследствие расового различия? Быть может, ученые обратят когда-нибудь внимание на эту странность, тем более, что в Нормандии она исчезает. А пока факт налицо: между бретонками очень редки блондинки; глаза у них отличаются такой же живостью, как у южанок, но они вовсе не высоки и не так тонки, как итальянки и испанки: в большинстве случаев они роста небольшого, плотного сложения, мускулисты; исключение представляет высший класс, благодаря бракам с аристократическими фамилиями. Мадемуазель де Туш, как истая родовитая бретонка, среднего роста, хотя кажется выше, благодаря своей фигуре. Цвет лица ее немного оливковый днем и совершенно белый при вечернем освещении делает ее похожей на итальянку, у которых цвет лица всегда напоминает темный цвет слоновой кости. Свет скользит по ее гладкой коже и придает ей какой-то особенный тон. Нужно очень сильное волнение, чтобы вызвать на ее щеки слабую краску, которая быстро пропадает. Благодаря этому, лицо ее всегда бесстрастно. Окладом лица, скорее продолговатым, чем овальным, она напоминает Изиду на египетских барельефах. Глядя на ее черты, вам вспоминаются головы сфинксов, которых ласкает египетское солнце и полирует знойная пустыня. Цвет лица вполне гармонирует у нее с классическими чертами. Черные, густые волосы она носит заплетенными в косы, и вся прическа напоминает Мемфисских статуй с их двойной охватывающей голову повязкой. Лоб у нее широкий, выпуклый на висках; линия его идет не прямо, а с небольшими извилинами и напоминает лоб Дианы-охотницы. Такой лоб означает характер могучий и самовластный, молчаливый и спокойный. Брови резко очерчены; глаза вдруг загораются, как две звезды. Глазное яблоко не отливает синевой, на нем нет никаких красных жилок, хотя оно и не имеет молочно-белого оттенка: оно все сплошное, как из цельного рога, и имеет какую-то темную окраску. Зрачок обведен оранжевой полоской: точно бронза в золотой оправе, если бы можно было себе представить живую бронзу. На зрачке нет амальгамы, как бывает в некоторых глазах, которые отражают свет и приобретают поэтому сходство с глазами тигра или кошки; в нем нет также этой страшной неподвижности, которая невольно заставляет нервного человека вздрогнуть; но в нем есть какая- то бесконечная глубина, хотя нет блеска. Опытному глазу наблюдателя легко читать все ее мысли в ее взгляде, хотя выражение ее бархатных глаз постоянно меняется, сообразно с тем, как меняются ее душевные ощущения. Особенно красивы глаза Камиль Мопен, когда они зажигаются страстью: тогда золотой зрачок как будто золотит и желтоватое яблоко и в них появляются золотые искорки. Но в спокойном состоянии взгляд ее тускл и благодаря тому, что она часто бывает погружена в различные серьезные соображения, даже кажется иногда бессмысленным. В связи с этим тускнеет и все лицо. Ресницы у нее коротки, но очень густы и часто посажены, точно хвост горностая. Веки несколько темноваты и усеяны красноватыми жилочками, что придает лицу выражение какой-то внутренней силы и вместе прелести; два качества эти очень редко встретишь у женщины.
Вокруг глаз кожа совершенно гладкая, без всякого признака морщин, точно на египетской статуе, которая от времени точно стала казаться живой. Скулы у нее несколько более выдаются, чем у всех женщин и еще более подчеркивают выражение энергии, которой дышит все ее лицо. Нос очень тонкий и прямой с раздувающимися розовыми нежными ноздрями. Очень изящной линией он соединен со лбом и замечательно бел; ноздри очень легко начинают раздуваться, как только Камиль взволнуется или рассердится. Этим свойством, по словам Тальмы, отличаются все великие люди в минуты гнева или иронии. Неподвижность ноздрей всегда говорит о некоторой душевной сухости. Нос скупого человека всегда неподвижен – он вечно сжат, как и его губы и все лицо его точно замкнуто, как и его душа. Рот, с красивым изгибом в уголках и ярко красными губами, необыкновенно красив и своими мягкими очертаниями представляет полный контраст с величественным и серьезным складом лица. Верхняя губа ее очень тонка и линия, соединяющая нос со ртом, очень выгнута и близко подходит к верхней губе, так что легкое вздергивание губы сразу придает лицу Камиль необыкновенно презрительное выражение. Нижняя губа толще и ослепительно красного цвета. Выражение губ замечательно мягкое и приятное и рот ее, точно изваянный резцом Фидия, производит впечатление полуоткрытой гранаты. Подбородок довольно полный, но его твердые линии доказывают ее решимость и вполне гармонируют со всем ее профилем, достойным богини. Над верхней губой растет легкий пушок; природа сделала бы большую ошибку, если бы лишила ее этих легких, как дымка, усиков. Уши, очень красивой формы, доказывают все изящество ее натуры. Бюст довольно полон, талия тонкая. Бедра не пышны, но грациозно округлены и своими контурами напоминают скорее Вакха, чем Венеру Каллипигийскую. Здесь особенно заметны нюансы, отличающие женщину знаменитую от всех обыкновенных женщин: первая всегда имеет несколько мужской склад тела, не имеет той гибкости и тех широких контуров, которыми отличаются женщины, предназначенные судьбой к обязанностям материнства. В свою очередь мужчины хитрые, лживые, трусливые, очень часто бывают наделены почти женскими бедрами. Шея Камиль одной покатой линией соединяется с плечами, и на затылке не имеет ни впадины, ни изгиба: опять доказательство силы. Плечи ее очень красивы, но настолько широки, что можно подумать, что они принадлежат женщине-колоссу. Форма рук очень красива и оконечности их своим изяществом напоминают руки англичанок: они все усеяны ямочками, довольно полны и оканчиваются розовыми, миндалевидными ногтями. Цвет кожи на руках замечательно бел, из чего можно заключить, что все ее тело, крупное, полное, имеет кожу совершенно другого оттенка, чем на лице. Вся голова ее придает ей несколько холодный и очень решительный вид, который смягчается подвижностью рта, очень часто меняющего свое выражение, точно так же, как и подвижные ноздри носа. Не всякому сразу бросится в глаза, сколько обещает эта живая игра лица, сколько в этом заманчивой прелести, и на первый взгляд лицо ее кажется вызывающе холодным. На нем точно лежит отпечаток какой-то печали, ему более присуще меланхоличное сосредоточенное выражение, нежели кокетливое. Мадемуазель де Туш больше слушает, чем говорит сама. Своим молчанием и пристальным, глубоким взглядом глаз она может смутить собеседника. Всякий образованный человек, видя ее, невольно сравнивал ее с Клеопатрой, которая едва не произвела большого переворота в истории народов. Но Камиль представляет собой женщину – львицу, полную сил и замечательно совершенную в умственном и физическом отношении.
Мужчина с несколько восточными воззрениями на женщин, наверное, пожалел бы, что она так умна и хотел бы увидать ее более женственной. Неприятно подумать, что вдруг имеешь дело с женщиной-демоном, испорченной до мозга костей. Способна ли она испытать страсть, будучи вечно занята холодным анализом и положительными науками? Разум, не убил ли в ней сердце или, может быть, как это ни странно, она чувствует и анализирует свои чувства одновременно? Существуют ли для нее преграды, или так как ее уму все доступно, то, в противоположность другим женщинам, она не остановится ни перед чем? Будучи так умна, может ли она открыть свое сердце, способна ли желать нравиться? Снизойдет ли до разных трогательных мелочей, которыми женщины стараются занять и заинтересовать любимого человека? Если, по ее мнению, чувство не достигает того идеала, к которому она стремится, не покончит ли она с ним сразу? Как угадать, что таится в глубине ее глаз? Невольно ждешь от нее какой-то неукротимости, чего-то неведомого. Вообще женщина с большой душевной силой хороша только как аллегория, но не в действительности.
Камиль Мопен немного напоминала собой Изиду Шиллера, стоявшую в полумраке храмов и у ног которой жрецы находили трупы отважных людей, приходивших вопрошать о своей судьбе. О Камиль ходило много рассказов, которых она не опровергала, и поэтому есть вероятие, что в них была доза правды. Или ей нравились такие слухи? Тип ее красоты играл немалую роль в ее славе: она послужила ее целям, так же как ее богатство и хорошее происхождение помогли ей удержать положение в свете. Если бы ваятель задумал изваять статую Бретани, то он не мог бы найти лучшей модели, чем мадемуазель де Туш. Только такие характеры, сангвинические и самовластные, могут не бояться губительного времени. Ее крепкое сложение, упругая здоровая кожа и бесстрастное лицо, точно кираса, предохраняют ее от морщин и делают ее в этом отношении счастливее других женщин. В 1817 г. эта интересная девушка открыла двери своего дома для артистов, известных авторов, ученых и публицистов, к которым она чувствовала инстинктивное влечение. Салон ее стал известен не менее салона барона Жерарда; у нее аристократия сталкивалась со знаменитостями, и можно было встретить самое лучшее парижское общество. Влиятельная родня мадемуазель де Туш и большое состояние, еще увеличившееся после наследства от тетки-монахини, много содействовали ей в этой трудной задаче: создать себе круг знакомых. Успеху ее в этом много помогла и ее независимость. Многие честолюбивые матери стали лелеять надежду женить на ней своих сыновей, состояние которых несколько уступало красоте их гербов. Некоторые пэры Франции, которых приманил ее годовой доход в восемьдесят тысяч ливров и роскошный дом, приезжали к ней со своими родственницами, которые считались очень разборчивыми и неприступными. Дипломатический мир, которому нужна пища для ума, находил в ее обществе большое удовольствие. Окруженная всеми этими типами, мадемуазель де Туш могла наблюдать, какие комедии могут разыгрывать люди под давлением страсти, алчности и честолюбия. Она рано поняла людей, и обстоятельства сложились для нее так удачно, что она на первых порах не имела случая испытать силу любви, которая завладевает умом и всем существом женщины и лишает ее возможности здраво судить об окружающем. Обыкновенно женщина живет сначала чувством, потом наслаждениями и, наконец, рассудком: отсюда три возраста, из которых последний, самый печальный – старость. В жизни мадемуазель де Туш порядок был совершенно другой: молодость ее была окружена снегами наук и холодом размышлений. Этой ненормальностью отчасти объясняется оригинальность ее образа жизни и свойство ее таланта. Она уже изучала всех мужчин в том возрасте, когда женщины всецело бывают поглощены одним героем; она презирала то, чем они восхищались, она видела лживость той лести, которую женщины принимают за правду и смеялась над тем, что им казалось очень важным. Эта неестественная жизнь длилась очень долго и имела роковую развязку: она только тогда ощутила в себе первую, молодую, свежую любовь, когда женщины по законам природы почти перестают думать о любви. Первая ее связь была сохранена в такой тайне, что никто не знал о ней. Фелиситэ, уступив, как все женщины, приговору сердца, думала, что красота физическая должна, наверное, соответствовать и душевной красоте человека; влюбившись в одну внешность, она вскоре увидала глупость своего возлюбленного: он видел в ней только женщину. Нескоро оправилась она от чувства отвращения, которое оставила в ней эта нелепая связь. Другой заметил ее горе, принялся утешать ее без всякой затаенной мысли, или, по крайней мере, хорошо скрыв свои тайные цели. Фелиситэ показалось, что в нем она найдет, наконец, то благородное сердце и ум, которого не хватало первому франту. Он был одним из самых оригинальных и умных людей своего времени, он писал под псевдонимом, и первое его сочинение было полно восторженных отзывов об Италии. Фелиситэ пришлось путешествовать, чтобы не остаться невеждой в этом отношении. Он относился ко всему скептически и насмешливо, но, тем не менее, повез Фелиситэ познакомиться со страной искусств. Можно по справедливости сказать, что этот знаменитый человек создал Камиль Мопен. Он упорядочил все ее бесчисленные познания, увеличил их знакомством с памятниками искусства Италии и передал ей свой слог, остроумный и меткий, насмешливый и глубокий, который составляет отличие его причудливого таланта. Камиль Мопен от себя изменила его по-своему, прибавила женскую остроту ума и способность воспринимать самые нежные ощущения. Кроме того, он познакомил ее с произведениями английской и немецкой литературы и во время путешествия научил ее этим двум языкам. В Риме в 1820 г. он покинул ее ради итальянки; это горе помогло ей стать знаменитой женщиной. Наполеон называл Несчастье восприемником Тения. После этого тяжелого для нее события мадемуазель де Туш раз навсегда почувствовала презрение ко всему человечеству, вследствие чего и приобрела такую силу духа. Фелиситэ умерла, и родился Камиль. Она вернулась в Париж с Конти, известным музыкантом, для которого она написала два оперных либретто. Но сама она навсегда утратила прежние иллюзии и тайно от всех обратилась в своего рода Дон-Жуана женщину, но только без долгов и без побед. Ободренная первым успехом, она издала два тома драматических произведений, которые сразу поставили Камиль Мопен наряду с самыми знаменитыми анонимами. В замечательном, небольшом романе, который считается одним из гениальных произведений этой эпохи, она описала свою обманутую любовь. Книга эта, которую поместили в разряд опасных, попала в категорию с Адольфом, где излиты очень неудачно жадобы на ту же тему, но от лица обвиняемых ею мужчин. До сих пор многим осталось непонятно, зачем она прибегла в такой метаморфозе в литературе. Только некоторые проницательные люди поняли, что сделано это было из чувства великодушия: с одной стороны, критика всегда менее щадит мужчину, а с другой – оставаясь в неизвестности, она, как женщина, добровольно отказывалась от славы. Но, несмотря на ее желание оставаться в тени, известность ее росла с каждым днем, отчасти благодаря ее салону, отчасти благодаря ее остроумию, верному взгляду на вещи и основательным знаниям. Она имела известный авторитет, ее слова передавались от одного к другому, и волей-неволей ей пришлось нести обязательства, которые наложило на нее парижское общество. Она была существом исключительным, однако, всеми признанным. Свет преклонился перед талантом и богатством этой оригинальной девушки; он признал и освятил ее любовь в независимости: женщины восхищались ее умом, мужчины – красотой. Впрочем, поведение ее было вполне согласно с общепринятыми приличиями, и привязанности ее имели по наружности вид совершенно платонических. Она ничем не напоминала женщин-писательниц. Мадемуазель де Туш была очаровательная светская особа, умевшая, кстати, выказать себя то слабенькой, любящей праздную жизнь, то кокетливой, занятой туалетами женщиной, приходящей в восторг от тех глупостей, какими восхищаются женщины и поэты. Она очень хорошо поняла, что после г-жи де Сталь, в этом столетии не хватит места для другой Сафо, и что Нинон не может существовать в Париже без вельмож и без двора. Она решила стать второй Нинон по уму, по своему преклонению перед искусством и художниками: она поэта меняла на музыканта, ваятеля на писателя. Ее великодушие и благородство доходило до наивности, и она не замечала обманов, так велико было ее сострадание к несчастью и презрение к счастливым людям. С 1830 г. она составила себе избранный круг испытанных друзей, любящих и уважающих друг друга, и замкнулась в этом кружке. Будучи так же далека от громкой известности г-жи де Сталь, как и от политической борьбы, она частенько поднимает на смех Камиль Мопен, младшего брата Жорж Занд, которую она называет своим Каином, потому что ее молодая слава предала забвению ее собственную известность. Мадемуазель де Туш с ангельской кротостью восхищается своей соперницей, не чувствуя в ней никакой зависти.
До той минуты, с которой начинается эта повесть, она вела самый счастливый образ жизни, какой только может желать женщина, если она в силах постоять за себя. С 1817 по 1839 год она приезжала в Туш раз пять-шесть. В первый раз это было в 1818 году, после испытанного ею разочарования. Жить в главном доме оказалось невозможным; тогда она отправила своего управляющего в Геранду, а сама заняла в Туше его помещение. Не предчувствуя будущей своей славы, она была очень грустна, никого не принимала и хотела сосредоточиться в своих мыслях и чувствах после постигшего ее несчастья. Затем, она написала о своем желании уединиться своей приятельнице в Париж, прося ее купить необходимую мебель для обстановки дома. Мебель была привезена водой до Нанта, затем была доставлена в Круазиг и оттуда с большими затруднениями ее привезли по пескам в Туш. Она выписала из Парижа рабочих и поселилась в Туше, который ей очень нравился общим своим видом. Здесь, как бы в привилегированном монастырском заключении, ей хотелось мысленно пережить события, которые пришлось испытать в жизни. В начале зимы она вернулась в Париж. Маленькая Геранда была тогда охвачена ужасным любопытством: везде только и было разговора, что о восточной роскоши обстановки мадемуазель де Туш. Нотариус, доверенное ее лицо, позволил осматривать дом. И вот туда потянулись любопытные из местечка Батца, из Круазига, из Савене. Благодаря этому наплыву посетителей, привратник и садовник собрали за два года огромную сумму, целых семнадцать франков. Фелиситэ вернулась в Туш только два года спустя, возвратившись из Италии, через Круазиг. В Геранде некоторое время не знали, что она здесь и с композитором Конти. Ее появление прошло почти незаметно для нелюбопытных жителей Геранды. Один только управляющий ее, да нотариус были посвящены в тайну существования знаменитого Камиль Мопен. Впрочем, в Геранде в это время уже стали бродить новые веяния, и некоторые лица знали о раздвоении личности мадемуазель де Туш. Почт-директор получал письма, адресованные Камиль Мопен, в Туш. Наконец, завеса разодралась. В такой ярой католической и отсталой стране, полной предрассудков, странная жизнь этой знаменитой женщины неминуемо должна была вызвать разные толки, испугавшие аббата Гримона; ее никто не мог здесь понять, в их умах составилось о ней самое ужасное представление. Фелиситэ была не одна в Туше: у нее был гость. Это был Клод Виньон, писатель, отличавшийся очень гордым и презрительным умом; хотя он не писал ничего, кроме критических статей, но сумел облагородить вкусы публики и способствовал возвышению уровня литературных произведений. Фелиситэ принимала его у себя за последние семь лет наряду с сотнями других писателей, журналистов, артистов и светских людей и хорошо изучила его бесхарактерность, лень, ужасную бедность и полное равнодушие и презрение ко всему; она вела себя по отношению к нему так, что, казалось, хотела сделать его своим мужем. Свое непонятное для ее друзей поведение она объясняла честолюбием и страхом перед наступающей старостью; по ее словам, ей хотелось провести остаток своей жизни с талантливым человеком, для которого ее состояние было бы средством выдвинуться и упрочить ее значение в литературном мире. Она увезла Клода Виньона из Парижа в Туш, как орел уносит в когтях козленка, увезла, чтобы хорошенько узнать его и прийти к какому-нибудь окончательному решению. Но она одновременно обманывала и Клода и Калиста и вовсе не помышляла о браке: в данное время она находилась в периоде страшного внутреннего разлада, какой только может испытать женщина с таким сильным духом, видя, что надежды, возложенные ею на умственную жизнь, обманули ее и видя, что жизнь ее слишком поздно, к несчастью, озарилась светом любви, таким ослепительным светом, какой горит только в сердцах двадцатилетних юных существ. Опишем теперь место уединения Камиля.
В нескольких сотнях шагов от Геранды прекращается бретонская почва, и начинаются соляные болота и дюны. Здесь начинается песчаная пустыня, которую море положило преградой между собой и землей; дорога, ведущая к пескам, вся изрытая и неровная, никогда не видела ни одного экипажа. Пустыня эта покрыта бесплодными песками и болотами, с тинистыми кочками, из которых добывается соль; маленький рукав моря отделяет от материка полуостров Круазиг. Хотя географически он считается полуостровом, но в виду того, что он соприкасается с Бретанью песчаною полосою со стороны Батца, а пески эти сыпучие и раскаленные крайне затрудняют сношение, то Круазиг легко может сойти за остров. В том месте, где дорога из Круазига на Геранду опять идет по ровной земле, находится дача, окруженная садом, в котором сразу бросаются в глаза изогнутые, искривленные сосны, то широко раскинувшие ветви, то почти обнаженные, с красноватыми стволами, с которых слезла местами кора. Деревья эти – жертвы ураганов, но стоят невредимо, несмотря на бури и морские приливы. Они приготовляют зрителя к грустному и странному зрелищу соляных болот и дюн, которые имеют вид окаменелого моря. Дом, довольно хорошо построенный из сланцевых камней с известью, украшенный гранитными столбами, не имеет никакого стиля, а представляет голую стену, с равномерно пробитыми оконными отверстиями. Окна в первом этаже имеют цельные, большие стекла, а в нижнем – маленькие, узкие. Над первым этажом находятся чердаки, тянущиеся по всему протяжению высокой, остроконечной крыши с двумя щипцами и двумя большими слуховыми окнами по фасаду. Внутри треугольника, образуемого щипцом, находится большое окно, выходящее на запад к морю, а на восток – к Геранде. Одной стороной дом выходит на дорогу, ведущую к Геранде, а другой – в пустыню, в конце которой находится Круазиг, а за ним открытое море. Ручеек вытекает из отверстия в стене парка, течет вдоль дороги в Круазиг, затем пересекает ее и теряется среди песков в маленьком соленом озере, опоясанном дюнами и болотами и возникшем после наводнения. Дорога в несколько сажен ведет к дому. Через большие ворота входят во двор; вокруг него расположены довольно скромные деревенские постройки: конюшня, каретный сарай и домик садовника, возле которого находится птичий двор со всеми относящимися к нему службами; всем этим гораздо больше пользуется привратник, чем господа. Сероватая окраска дома прекрасно гармонирует с окружающим ее пейзажем. Парк представляет собой оазис в пустыне; у входа в него путешественник видит, прежде всего, глиняную хижинку, где живут сторожа из таможни. Этот дом без земли, или вернее, с землями, которые расположены в территории Геранды, имеет с болот до десяти тысяч ливров дохода и сверх того, доходные мызы, разбросанные вокруг. Таково было поместье Тушей, после того, как революция лишила их феодальных налогов. В настоящее время это обыкновенное имение; но рабочие продолжают называть дом замком и, пожалуй, стали бы говорить государь, если бы это слово не утратило теперь смысл. Когда Фелиситэ принялась за поправку Туша, то, как истая артистка в душе, она ничего не изменила в наружном виде меланхоличного дома, делающем его похожим на тюрьму. Только ворота были украшены двумя кирпичными колонками, образующими арку, под которой может проехать экипаж. Двор она велела усадить деревьями.
Распределение комнат нижнего этажа такое же, как и в большинстве домов, выстроенных в прошлом столетии. По всем признакам, дом этот был выстроен на развалинах какого-нибудь маленького замка, служившего соединительным звеном между Круазигом и местечком Батцом, с одной стороны и Герандой с другой, и отсюда можно было распоряжаться всеми окрестными болотами. Внизу лестницы был вестибюль. Затем шла большая комната с дощатым полом: здесь Фелиситэ поставила биллиард. Затем дальше огромная зала с шестью окнами; два из них, пробитые до низу стены, образуют двери; лестница из двенадцати ступеней ведет в сад; этим дверям в зале соответствуют другие двери, ведущие в биллиардную и в столовую. Кухня находится в другом конце и сообщается со столовой посредством буфетной комнаты. Лестница отделяет биллиардную от кухни, из которой была еще дверь в вестибюль; но мадемуазель де Туш забраковала ее и велела прорубить дверь с выходом во двор. Благодаря высоким большим комнатам, Камиль могла убрать весь этот этаж в очень простом, но благородном стиле. В убранстве не было никакой роскоши. Зала, с окрашенными в серый цвет стенами, обставлена старинной мебелью из красного дерева с зеленой шелковой обивкой, на окнах висели белые коленкоровые занавеси с зеленой каймой, затем были две консоли и круглый стол; посредине лежал ковер с большими шашками. На большом камине с громадным зеркалом стояли часы, изображавшие солнечный диск, а по бокам два канделябра в стиле империи. Биллиард накрыт серым, с зеленой каймой, чехлом; в этой же комнате стоят еще два дивана. Мебель столовой состоит из четырех буфетов красного дерева, из стола, дюжины красных стульев, с волосяными сиденьями; по стенам в рамках из красного дерева висят чудные гравюры Одрана. С потолка спускается изящный фонарь, какой бывает на лестницах богатых отелей; в нем помещаются две лампы. Потолки, с выдающимися балками, везде окрашены под натуральный цвет дерева. Старинная лестница, деревянная с толстыми перилами, сверху донизу покрыта ковром.
В верхнем этаже было две половины, разделенные лестницей. Камиль взяла для себя то помещение, которое выходит окнами к болотам, к морю и к дюнам; она устроила себе маленькую гостиную, большую спальню, два кабинета: один служит ей уборной, другой рабочей комнатой. На другой половине она устроила два отдельных помещения, которые каждое заключались в передней и одной комнате. Для прислуги были комнаты под крышей. Помещения для гостей сначала имели только самую необходимую мебель. Вся же роскошная художественная обстановка, выписанная из Парижа, предназначалась для ее личной половины. Ей захотелось обставить самой причудливой художественной меблировкой этот мрачный и меланхоличный дом с его мрачным и меланхоличным местоположением. Гостиная ее была вся обтянута чудными гобеленами в восхитительных панелях со скульптурными украшениями. На окнах висели тяжелые старинные занавеси из великолепного брокара с отливом, отдающим то золотом, то красным цветом, то желтым, то зеленым; занавеси же падали тяжелыми складками, с богатым аграмантом на концах и с кистями, которые были так роскошны, что могли бы служить церковным украшением. В гостиной стоял шкаф, разысканный для нее поверенным, стоящий в настоящее время семь-восемь тысяч франков; затем стол из черного дерева с вырезными украшениями, секретер с тысячей ящичков, с арабесками из слоновой кости, из Венеции, и разная чудная мебель в готическом стиле. В гостиной была масса картин и статуэток и всякие редкости, которые собрал для нее один из ее друзей, художник. Продавцы этих ценных редкостей в 1815 году не подозревали еще о той высокой цене, которой стали со временем оцениваться такие сокровища. На столах стояли чудные японские вазы с причудливыми узорами. На полу лежал персидский ковер, контрабандой провезенный через дюны. Спальня ее во вкусе Людовика XV и стиль соблюден до мелочей. Кровать деревянная, с резными украшениями, окрашена в белый цвет; оба заголовка дугообразной формы и заканчиваются амурами, перебрасывающимися цветами; они обиты шелковой материей, затканной цветами; балдахин над кроватью украшен четырьмя султанами из перьев; стены комнаты обиты персидской материей, подхваченной шелковыми бантами и шнурами. Камин выложен раковинами; на нем стоят часы из толченого золота между двумя большими севрскими вазами небесно-голубого цвета с украшениями из позолоченной бронзы. Зеркало заключено в рамку того же стиля, как и вся комната, здесь же стоит и туалет Помпадур, весь в кружевах, с зеркалом. Остальная мебель состоит из всевозможных изогнутых кресел, из качалок, из маленького жесткого диванчика; тут же грелка с обитой спинкой, лакированные ширмы, шелковые портьеры из той же материи, что и мебельная обивка, с розовой атласной подкладкой, задрапированные шнурами; повсюду разбросаны ковры и разные элегантные, богатые и изящные вещицы, которые служили декорацией для красавиц XVIII века, занимавшихся любовными делами. В рабочем кабинете обстановка современная, совершенно не похожая на прихотливую мебель века Людовика XY. Комната обставлена мебелью красного дерева; библиотека заставлена книгами; кабинет похож скорее на будуар, потому что в нем стоит диван. Повсюду разбросаны изящные пустячки, которые так любят женщины и все они современного изделья: тут и книги с секретными замками, и ящички для платков и перчаток, и фарфоровые абажуры с рисунками, и статуэтки, тут и китайские безделушки, и письменные приборы, несколько альбомов, разные пресс-папье и тому подобные модные вещицы. С невольным удивлением замечаешь здесь пистолеты, кальян, хлыстик, гамак, трубку, охотничье ружье, блузу, табак и солдатский мешок – весь этот причудливый сбор вещей дает представление о том, какова была Фелиситэ.
Из окна открывается своеобразно-красивый вид на бесконечные саванны, начинающиеся за парком, которым оканчивается растительность этого кусочка материка. Дальше идут печальные водяные солоноватые лужицы, а между ними маленькие, белые тропинки, по которым двигаются рабочие, одетые все в белое; они сравнивают и собирают соль в кучки. Место это совершенно лишено растительности и, благодаря соляным испарениям, даже птицы избегают пролетать вблизи него; а на песках кое-где растет жесткая, маленькая травка с розоватыми цветочками и дикая гвоздика; далее озеро морской воды, с песками дюн, а вдалеке Круазиг, который представляет из себя в миниатюре город, окруженный, как Венеция, отовсюду открытым морем; а еще дальше – безбрежный океан, волны которого разбиваются о гранитные рифы и, оставляя после себя пенистый след, делают еще более рельефными причудливые формы скал. Общий вид этой картины действует на душу облагораживающим образом, но вызывает чувство грусти, как и все прекрасное, он пробуждает сожаление о чем-то неведомом, о чем-то безгранично-высоком, доступном только избранным душам. Поэтому дикая прелесть этого места могла нравиться только людям, обладающим высоким умом или испытавшим большое несчастье. Эта пустыня, где солнце отражается в воде и в песках и белым светом заливает местечко Батц и наводняет снопом лучей Круазиг, поглощала целыми днями внимание Камиль. Она редко оборачивалась в сторону очаровательно-зеленого пейзажа, в сторону рощ и цветущих изгородей Геранды, которая стоит, точно невеста, вся в цветах, в лентах, в вуали и полном наряде. Всякий раз при этом Фелиситэ испытывала чувство щемящей, неведомой ей раньше боли.
Калист, едва завидев флюгеры ее дома из-за терновника и изогнутых верхушек сосен, почувствовал сразу, что ему точно стало легче дышать. Геранда была для него тюрьмой, вся жизнь его сосредоточилась в Туше. Кто не поймет, какой магнит привлекал сюда этого молодого, чистого юношу? Любовь, похожая на любовь херувима, заставлявшая его пасть к ногам той, которая была для него недосягаемо-высоким существом еще раньше, чем стала для него женщиной, любовь эта была настолько сильна в нем, что не слабела, несмотря на непонятный отказ Фелиситэ. Чувство это, скорее потребность любить, чем любовь, вероятно, не избегло беспощадного анализа Камиль Мопен, и в этом крылась причина ее упорства. Калист, конечно, не подозревал этого благородного движения ее души. Кроме того, здесь повсюду блестели чудеса современной цивилизации тем более ярко, что они представляли полный контраст с Герандой, где казалась роскошью даже бедность дю Геников. Здесь перед восхищенными взорами молодого невежды, знакомого только с бретонскими лошадьми да с вересками Вандеи, открылась вся парижская утонченность нового для него мира; здесь он впервые услыхал неведомый, звучный язык. Калист услыхал здесь поэтические аккорды чудной, удивительной музыки XIX столетия, где мелодия и гармония одинаково хороши, где пение и инструментовка достигли необыкновенного совершенства. Он познакомился с произведениями богатейшей живописи французской школы, заместительницы итальянских, испанских и фландрских школ: талантливые произведения стали встречаться так часто, что все глаза, все сердца, утомленные лицезрением только талантов, громко требуют гениального творения. Он прочел богатые содержанием, глубокие сочинения современной литературы и они произвели большое впечатление на его юное сердце. Весь великий XIX век открылся перед ним во всем своем блеске, со своими богатыми вкладами в критику, со своими новыми идеями, с гениальными начинаниями, достойными гиганта, который, спеленав юный век в знамена, укачивал его под звуки военного гимна, под пушечный аккомпанемент. Калист, посвященный Фелиситэ в значение этих великих событий, которые нередко проходят незаметно для самих действующих в них героях, нашел в Туше полное удовлетворение непреодолимому влечению ко всему чудесному, которым всегда отличается его возраст. Здесь испытал он впервые преклонение перед прекрасным, испытал первую юношескую любовь, которая не переносит никакой критики. Ведь так естественно, что легкий огонек быстро разрастается в сильное пламя! Он здесь прислушивался к легкой парижской иронии, к изящному, насмешливому разговору, который составляет особенность французской нации; в нем здесь стали пробуждаться тысячи мыслей, дремавших в нем раньше благодаря полусонной домашней обстановке. Для его ума мадемуазель де Туш была настоящей матерью, которую он мог любить, не совершая преступления. Она была так добра к нему: ведь женщина, которую любит мужчина, всегда кажется ему очаровательной, хотя бы она и не платила ему взаимностью. В данное время Фелиситэ давала ему уроки музыки. Ему казалось, что и эти большие комнаты нижнего этажа, казавшиеся еще больше от соседства с расстилавшимися вокруг лугами и деревьями парка, и эта лестница, заставленная разными произведениями кропотливых итальянских мастеров, со своими резными, деревянными украшениями, с венецианской и флорентийской мозаикой, с барельефами из слоновой кости, мрамора, со всеми редкостями, точно созданными по заказу волшебниц средних веков, – что все это уютное, кокетливое, утонченно-художественное помещение было одухотворено каким-то странным сверхъестественным, неуловимым светом и дышало разлитым здесь особенным воздухом, атмосферой ума. Новый, современный мир со всей своей поэзией составлял резкий контраст со скучным патриархальным миром Геранды. Калист мысленно сопоставил их: с одной стороны, тысячи произведений искусства; с другой – однообразие невежественной Бретани.
Всякому понятно теперь, почему этот бедный ребенок, которому, как и его матери, надоели тонкости игры в мушку, почему он с радостным трепетом входил в этот дом, радостно звонил, радостно шел по двору. Надо заметить, что такой сердечный трепет и разные предчувствия совершенно перестают волновать людей уже сложившихся, закаленных жизненными неудачами, людей, которые ничему уже более не удивляются и ничего не ждут. Отворив дверь, Калист услыхал звуки фортепиано и подумал, что Камиль Мопен в гостиной, но когда он вошел в биллиардную, звуки рояля перестали доноситься до него. Вероятно, Камиль играла на маленьком прямом рояле, который ей привез из Англии Конти и который стоял в гостиной наверху. Поднимаясь по лестнице неслышными шагами, благодаря мягкому ковру, Калист шел все тише и тише. Ему почудилось в этой музыке что-то особенное. Фелиситэ играла сама для себя, беседовала сама с собой. Не желая входить, молодой человек сел на готическую скамью, обитую зеленым бархатом, стоявшую на площадке под окном, артистически украшенным резными работами, лакированным под орех. Импровизация Камиль дышала какой-то таинственной меланхолией: точно будто из глубины могилы чья-нибудь душа взывала к Богу с песнью Dе profundis. Молодой влюбленный услыхал в этих звуках мольбу безнадежной любви, нежную, покорную жалобу и стенания сдерживаемого горя. Камиль разработала, изменила и варьировала вступление к каватине «Сжалься над собой, сжалься надо мной», которая проходит почти во всем четвертом акте «Роберта-Дьявола». Она вдруг запела это место с выражением глубокого отчаяния – и сразу замолкла. Калист вошел и понял причину внезапно наступившего молчания. Бедная Камиль Мопен, красавица Фелиситэ, без всякого кокетства показала Калисту свое мокрое от слез лицо, взяла платок, отерла слезы и сказала совершенно простым тоном:
– Здравствуйте!
Она была очаровательна в утреннем туалете. На голове у нее была надета сеточка из красного бархата, бывшая тогда в большой моде; из-под нее выбивались блестящие пряди ее черных волос. Короткий сюртук несколько походил на греческую тунику и из-под него виднелись батистовые панталоны с вышитой оборкой на конце; на ногах были прелестные турецкие туфли, красные с золотом.
– Что с вами? – спросил Калист.
– Он не возвратился еще, – сказала она, став у окна и устремив взгляд на пески, болота и морской рукав.
Эти слова объясняли ее туалет. Камиль, по-видимому, ждала Клода Виньона и беспокоилась, что его нет, точно женщина, видящая, что старания ее пропали даром. Калист только заметил, что Камиль страдает.
– Вы беспокоитесь? – спросил он.
– Да, – отвечала она с меланхолией, в которой трудно было разобраться атому ребенку.
Калист быстро поднялся.
– Куда вы?
– За ним, – отвечал он.
– Дорогое дитя мое! – сказала она, взяв его за руку, и, удерживая ее в своей руке, она подарила его влажным взглядом, лучшей наградой для юного сердца. – Вы с ума сошли? Где вы его найдете на этом берегу?
– Я найду его.
– Ваша мать будет страшно беспокоиться. Оставайтесь, ну же, я хочу, чтобы вы остались, – сказала она, усаживая его на диван. – Не проникайтесь таким сожалением ко мне. Эти слезы нравятся нам, женщинам. Мы имеем особенную способность, которой нет у мужчин, способность отдаваться нашей нервности и всячески раздувать наши чувства. Воображая себе разные случайности и рисуя их себе, мы часто доводим себя до слез, а иногда и до более серьезных последствий, до ненормальности. Для нас фантазия игра не ума, а сердца. Вы пришли очень кстати, мне вредно оставаться в одиночестве. Я не поддалась на ловушку, расставленную им под предлогом посещения Круазига, Батца и соляных болот. Я знала, что он употребит на это не один день, а несколько. Ему хотелось нас оставить вдвоем: он ревнует, или, скорее, играет в ревность. Вы молоды, красивы.
– Так что же вы мне не говорили этого? Мне не надо больше бывать у вас? – спросил Калист, не в силах сдержать слез, которые растрогали Фелиситэ.
– Вы ангел! – воскликнула она.
Затем она весело запела «Останься» Матильды из «Вильгельма Теля», чтобы отнять от ответа принцессы ее подданному всякий оттенок серьезности.
– Он хотел таким поведением, – продолжала она, – заставить меня поверить, что он чувствует ко мне более сильное чувство, чем оно есть в действительности. Он знает, что я ему желаю только добра, – сказала она, – пристально смотря на Калиста. – Но его гордость страдает от сознания, что в этом отношении он уступает мне. А может быть, у него зародились подозрения на ваш счет и он хочет нас застать врасплох.
Но если бы даже вся вина его была в том, что он пожелал насладиться прелестью этой прогулки без меня, что он не принял меня себе в спутники в этой экскурсии, не разделял со мной мыслей, которые зародились у него при виде этих красот, что он заставляет меня смертельно беспокоиться, – разве всего этого мало? Меня так же мало любит этот мыслитель, как и музыкант, как и великий остроумец, как и офицер. Стерн прав: имена имеют свое значение, а мое – это грубая насмешка. Я умру, не найдя ни в одном мужчине ответа на любовь, которой полно мое сердце, на ту поэзию, которой дышит моя душа.
Она замолкла, бессильно опустив руки, голова ее откинулась на подушку, глаза сделались бессмысленными; погрузившись в задумчивость, она пристально смотрела на цветок ковра. Горе великих людей имеет в себе что-то грандиозное, внушающее уважение: перед зрителем точно открываются тайники их души, великой и безгранично могучей. Горе великих людей похоже на горе царственных особ, которое отражается в сердцах всех и заставляет страдать целый народ.
– Зачем вы меня?… – сказал Калист и не докончил.
Красивая горячая рука Камиль Мопен коснулась его руки и прервала его.
– Природа изменила для меня свои законы и дала мне еще пять, шесть лет молодости. Я отвергла вас из эгоизма. Рано ли, поздно ли, разница в возрасте принудила бы нас расстаться. Мне и так на тринадцать лет больше, чем ему: и этого довольно.
– Вы и в шестьдесят лет будете прекрасны! – геройски воскликнул Калист.
– Дай Бог! – с улыбкой отвечала она, – к тому же, дорогое дитя мое, я хочу любить его. Несмотря на его холодность, на отсутствие всякой творческой фантазии, на его трусливую беззаботность и зависть, мучащую его, я убеждена, что под этими лохмотьями скрывается величие духа, я надеюсь, что смогу наэлектризовать его, спасти его от самого себя и привязать ко мне. Увы! У меня здравый ум, но слепое сердце.
Она до ужаса ясно видела свой внутренний мир. Она страдала и анализировала свое страдание, вроде того, как Кювье и Дюпюнтрен объясняли своим друзьям роковой ход своих болезней и постепенное приближение смерти. Камиль Мопен так же хорошо знала чувство любви, как двое ученых – анатомию.
– Я приехала сюда, чтобы хорошенько изучить его: он уже стал скучать. Ему не хватает Парижа, я говорила ему это: у него болезненная потребность критиковать кого-нибудь; а тут нельзя ни отделать автора, ни осудить какую-нибудь систему, ни повергнуть в отчаянье поэта; к тому же здесь он не смеет предаться разгулу, который освободил бы его от тяжелого наплыва мыслей. Увы! Может быть, и моя любовь к нему недостаточно искренна, чтобы заставить его отрешиться от умственной жизни. Я недостаточно заставляю его терять голову! Напейтесь оба с ним сегодня вечером, а я скажусь больной и не выйду из своей комнаты: тогда я и узнаю, права я, или нет.
Калист покраснел, как вишня, от подбородка до волос, даже уши его загорелись.
– Боже мой! – воскликнула она, – ведь я нисколько не подумала о том, что развращаю тебя, ведь ты невинен, как молодая девушка. Прости меня, Калист! Когда ты полюбишь, то узнаешь, что можно даже взяться зажечь Сену, только бы доставить хотя небольшое удовольствие своему предмету, как любят выражаться ворожеи на картах.
Она на минуту замолчала.
– Бывают на свете люди с гордым и строго последовательным характером, которые в известном возрасте говорят: «Если бы мне пришлось начать жизнь сызнова, то я поступил бы точно так же!» А я хотя и не считаю себя малодушной, говорю: «Я хотела бы быть такой женщиной, как ваша мать, Калист!» Иметь такого Калиста, какое это счастье! Будь мой муж величайшим глупцом, я все-таки была бы ему покорной и смиренной женой. А между тем я не знаю за собой никакой вины по отношению к обществу: в жизни я вредила только сама себе. Увы! дорогое дитя мое, женщина не может прожить одна в обществе.
«Привязанности, которые не находятся в полной гармонии с социальными и естественными законами, привязанности необязательные – не прочны. Страдать, чтобы страдать – нет, лучше хоть кому-нибудь быть полезной. Что мне за дело до моих кузин Фокомб, которые уже перестали быть Фокомбами, которых я не видела в течение двадцати лет и которые вдобавок вышли замуж за негоциантов! Вы для меня сын, не доставивший мне неприятных обязанностей материнства, я оставлю вам свое состояние, и вы будете счастливы, по крайней мере, в этом отношении благодаря мне, вы, дорогое воплощение красоты и прелести, которого не должна коснуться никакая перемена, никакая порча.
Сказав это прочувствованным тоном, она опустила свои длинные ресницы, чтобы он не мог ничего прочесть в ее глазах.
– Вы ничего не захотели от меня, – сказал Калист, – и я отдам ваше состояние вашим наследникам.
– Дитя! – сказала Камиль низким голосом и по щекам ее потекли слезы. – Неужели ничто не спасет меня от меня самой!
– Вы хотели мне рассказать одну историю и письмо… – сказал великодушный юноша, желая отвлечь ее от охватившей ее грусти.
Но он не докончил, она прервала его речь.
– Вы правы, прежде всего, надо быть честной женщиной. Вчера уже было слишком поздно, ну, а сегодня, по-видимому, много есть свободного времени впереди, – с горькой иронией заметила она. – Чтобы исполнить мое обещание, я сяду таким образом, чтобы видеть далеко вдаль по берегу.
Калист повернул ей большое готическое кресло и открыл окно. Камиль Мопен, разделявшая восточные вкусы знаменитой писательницы, взяла великолепный персидский кальян, подаренный ей посланником. Она положила пачули в жаровню, вычистила мундштук, надушила перышко, которое она употребляла только один раз, подожгла желтые листья, поставила сосуд с длинным, покрытым синей эмалью и золотом, горлышком, составлявший главную часть этого красивого, созданного для наслаждения изобретения и, позвонив, велела подать чаю.
– Может быть, вы выкурите папиросу? Ах! Я все забываю, что вы не курите. Ведь так можно редко встречать такого чистого юношу! Чтобы коснуться атласного пушка, покрывающего ваши щеки, по-моему, нужно руку Евы, только что вышедшей из рук Бога.