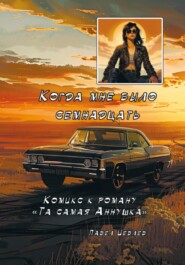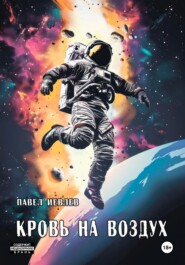По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вы просто не знаете куда смотреть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Потому что она уже есть!.. Придурок какой-то… – буркнула она себе под нос. – Вот мне везёт всегда… Так что, берёшь меня уборщицей?
– Ты хочешь тут убирать?
– Хочу? Я что, идиотка? Я похожа на человека, которому нравится отмывать блевотину с полов и ссанину в толчке? Конечно же, не хочу! Но мне нужны деньги!
– Так почему бы тебе…
– Что? На Завод? Нет уж, хватит того, что там моя мамаша полоумная работала. С идиотом-братом. Кроме того, мне ещё год в школе учиться. Меня не возьмут.
– И зачем тебе деньги?
– Не твоё дело! Нужны! Я нанята, или вернуть тебе швабру?
«Так её и назову», – подумал я.
***
К вечеру первого дня Швабра выдраила зал, туалет, подсобку, склад, отмыла столы, заполнила водой формы для льда, подмела крыльцо, очистила от мусора задний двор, мусор вынесла в баки, после чего застыла задумчивой статуей у стены, сморщив нос о древко одноимённого инструмента.
– У тебя хорошо получается, – сказал я.
– Меня не надо хвалить. Мне надо платить.
– Всем надо, поверь мне.
– Слушай, как там тебя… – сказала девушка сердито. – Всё просто. Ты платишь мне деньги, я убираю блевотину.
– Тут не было блевотины.
– Ну так будет. Ничего, я привыкшая. У меня тупорылый ушлёпок брат, полоумная мамка и, если бы я не убирала, в доме было бы хуже хлева. Меня не напугать обоссанным толчком. Но я ненавижу дом, ненавижу школу, ненавижу семью, ненавижу город и уже успела возненавидеть эту работу. Не давай мне повода ненавидеть тебя, и всё будет в порядке.
– И что может послужить поводом?
– Что угодно, – отрезала Швабра. – Просто держись подальше. Ты открывать-то собираешься? Вон, какой-то алкаш уже скребётся… Ненавижу чёртовых алкашей!
– Тогда ты выбрала не ту работу, – пожал плечами я, направляясь к двери.
– Другой тут нет.
Я перевернул табличку «Закрыто/Открыто» разрешающей стороной наружу, и в дверь немедленно ввалился Калдырь. Точнее, именно в этот момент он стал Калдырем, потому что у меня есть полезная привычка лингвистически объективизировать людей, которых вижу более одного раза. Это слегка скрашивает дискомфорт, который они доставляют мне своим существованием; кроме того, имена создают связи, а связи мне категорически противопоказаны.
– Наконец-то… – сказал Калдырь с облегчением. – Сил уже никаких нет… Водки мне срочно!
Он икнул, покачнулся, его повело так, что пришлось схватиться за столик, по которому покатился стакан с салфетками. Швабра, метнувшись атакующей коброй, ловко подхватила посуду на самом краю и тихо зашипела: «Только попробуй тут наблевать! Знаешь, где ты найдёшь тогда эту швабру?»
– Ты слышала что-нибудь о клиентоориентированности? – спросил я её с укоризной в голосе.
– Какое-то извращение, что ли? – возмутилась девушка. – У нас приличный город! Говённый, но приличный! Держи при себе всякие ориентированности, а то народ не поймёт.
Я только глаза закатил.
Вслед за Калдырём новое имя получил Заебисьман.
– О, бар работает, заебись! – сказал невысокий плотный еврей с небольшими, но отчётливыми пейсами, осматриваясь при входе и обмахиваясь белой панамой.
– Пиво какое есть?
– Жидкое. Жёлтое. С пеной. В кране.
На подключённой к крану кеге никакого логотипа нет.
– Вот и заебись, что жидкое, – радостно кивнул Заебисьман. – Налейте кружечку.
Я налил.
– Пиво как пиво, – оценил тот, попробовав. – Ну и заебись. Я пойду, за столик присяду.
За столиком Заебисьман неторопливо расположился так, как будто собрался провести там остаток жизни: положил на один стул панаму, на другой – портфель. Поставил на стол кружку. Сел. Осмотрелся. Достал из портфеля толстую книгу. Достал из кармана очки. Достал из другого кармана платок. Протёр очки. Посмотрел на свет. Протёр ещё раз. Водрузил очки на нос, раскрыл книгу, отхлебнул крошечный глоток и углубился в чтение с видом «Ну, вот теперь мне заебись».
– Спорим, до второй кружки он так и не дойдёт? – сказал подошедший к стойке серьёзный мужчина с кинематографически-мужественным лицом и неестественно широкими плечами.
Он снял с головы форменную полицейскую фуражку и положил её на стойку.
– Всё, теперь я официально не на службе. Виски, пожалуйста. Содовую. Сразу повторить.
Всосал в себя первый стакан как будто чистую воду, протянул руку за вторым.
– Вижу, у вас проблем с этим нет, – вежливо отметил я.
– Метаболизм такой. А на нём, – полицейский показал большим пальцем за спину, – бар не заработает.
– Рад любому клиенту, – соврал я.
Таких полицейских я видел только в комиксах – строгие голубые глаза, квадратный подбородок с ямочкой, баскетбольный рост, могучая фигура и форменная рубашка, до треска натянутая на грудных мышцах. У нормальных служителей закона она обычно выпирает ниже.
– Я заместитель начальника городского отделения полиции, – представился тот. – Но многим нравится называть меня «депьюти», как будто я помощник шерифа. Хорошо, что вы открылись, бара нам не хватало.
– Разве полиция одобряет питейные заведения?
– Когда люди организованно выпивают в одном месте, это уже не пьянство, а общественная жизнь. А, если что, наш участок буквально в двух шагах.
Полицейский протянул руку, и я её пожал. Рукопожатие поразило жёсткостью и силой.
– Протез, – сухо стукнул костяшками пальцев по стойке полицейский. – Пострадал на прошлом месте несения службы.
– Вся рука или только кисть?
– Обе руки. Плечевой пояс. Позвоночник. Лицевая часть черепа. Ноги. Я не всегда был такой красавчик, но профсоюз не поскупился на пластику. От моего собственного лица ничего не осталось, это выбрали из каталога клиники. Я был в коме, меня не спросили, но теперь уже привык.