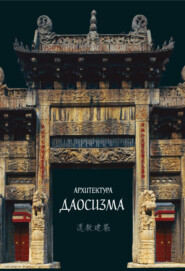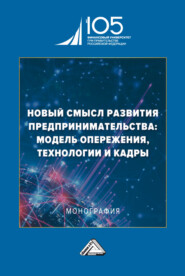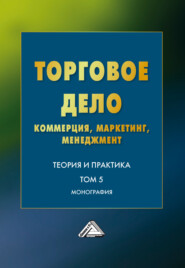По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Западно-Восточный экран. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 12–14 апреля 2017 года
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Фильм состоит из трех новелл. Первая посвящена одному из героев сказок «Тысяча и одной ночи», багдадскому халифу Гаруну аль Рашиду, которого играет замечательный актер Эмиль Яннингс. Халифу нравится красивая жена пекаря. Пекарь – храбрец и красавец, но он остается в дураках. Пока он добывает волшебный перстень для своей жены, та принимает в гостях Гаруна аль Рашида. Халиф, впрочем, тоже вынужден во всем подчиниться хитрой и красивой женщине.
Если анализировать сюжет, перед нами – плутовская, смешная сказка о хитрой жене, которой удалось одурачить мужа (сюжет, характерный как для Востока, так и для Запада). В «Тысяче и одной ночи» множество историй о хитрой жене, прячущей любовника в своей комнате от ревнивого мужа. Эти сказки зачастую приближаются к новелле или анекдоту. Однако смысл фильма гораздо сложнее.
Гарун, согласно сказкам «Тысяча и одной ночи», любил переодеваться простолюдином и бродить по ночному Багдаду. Однако, если его образ в сказках вызывает симпатию, то в фильме это капризный и похотливый тиран. Мало того – авторы фильма делают его чудовищно толстым, с помощью костюма превращая его фигуру в гротескную. Она напоминает иллюстрацию Обри Бердслея к «Али-Бабе» – восточная пышность наряда странно сочетается с чудовищным телом. Чудовищное в сказке всегда – нечеловеческое, всегда несет в себе знак принадлежности к другому миру (хтоническому). Завороженность немецкого кино темами власти и тирана, которую отмечает известный исследователь немецкой культуры Зигмунд Кракауэр[41 - Кракауэр 3. От Калигари до Гитлера. М., Искусство, 1977. По тексту.], проявляется в том, что власть наделяется нечеловеческими чертами, отождествляется с потусторонним злом. Таким образом, сказка из бытовой превращается в волшебную, мистическую.
В отличие от простодушного иллюзиониста Мельеса, Лени интересуется в первую очередь психологией героев, ему важны «крупные планы» – как в прямом, так и в переносном смысле. Гротескные зарисовки характеров отсылают нас к сказочным архетипам хитрой жены, простака-мужа, коварного властителя.
Загадочность, таинственность сказка Пауля Лени приобретает благодаря визуальному ряду. Архитектура «Багдада» и фигура калифа странным образом соответствуют друг другу, это приземистые, круглящиеся формы – словно изделия пекаря, героя этой истории. Храбрый багдадский пекарь, молодой и красивый силач, рискует жизнью ради любимой жены, но она обманывает и его, и монстроподобного властителя. В финальной сцене калиф нависает над пекарем и его женой, обнимая их и простирая над ними полы своего одеяния. Гротескная, расплывшаяся фигура халифа – скорее смешная, чем страшная, но она обладает зловещим ореолом. Человеческий разум и силы жалки по сравнению с могучими силами хаоса – а чудовищное тело в сказочной системе координат относится к явлениям хаоса.
Интересно, что в сказке присутствует очень важный для XX века мотив противопоставления подлинного и мнимого: здесь принесенное пекарем сокровище, волшебное средство, перстень исполнения желаний оказывается фальшивым. В то же время сюжет оборачивается так, что оно действует не хуже настоящего. Противопоставление правды и неправды снимается, нивелируется. Таким образом, сюжет приобретает «двойное дно», наполняется иронией.
В 1924 году известный американский режиссер Рауль Уолш и актер Дуглас Фэрбенкс, который выступал как продюсер, обращаются к экранизации сказки по мотивам «Тысячи и одной ночи» под названием «Багдадский вор» (с Д. Фэрбенксом в заглавной роли). Имеется даже некоторое фабульное сходство между фильмами Лени и Уолша: в центре повествования – бедняк, противостоящий сильным мира сего. Однако смысл сюжетов этих двух «восточных сказок» – немецкой и американской – полностью противоположен.
Афиша фильма «Багдадский вор»
Дуглас Фербенкс в заглавной роли в фильме «Багдадский вор»
Персонаж Дугласа Фэрбэнкса – Багдадский вор – кажется неуязвимым. Он может в одиночку противостоять всем сильным и могущественным врагам. Его красота, сила, ловкость, храбрость являются залогом неизменной удачи. Героя немецкого фильма те же качества не спасают.
Фильм «Багдадский вор» – также вольная вариация на тему восточных сказок, в «Тысяче и одной ночи» такого сюжета нет – но есть множество сходных сюжетов о ловких ворах. Знаменательно, что американский фильм предваряется эпиграфом-моралью: «Счастье должно быть заработано». И действительно, герой, бросив воровскую жизнь, небезуспешно пытается заслужить право на счастье с прекрасной принцессой. Слишком откровенное морализаторство скрашено большим количеством спецэффектов.
Сюжет – герой пускается на поиски сокровища для возлюбленной – решен в совершенно ином ключе, нежели аналогичный мотив в «Кабинете восковых фигур». По словам современников, Фэрбенкс декларировал, что его цель – это экспрессионизм наоборот, то есть оптимизм. А потому его герой не только находит сокровище, но и спасает свою невесту, а злодей оказывается посрамленным. Крупные планы в «Багдадском воре» принадлежат к наименее запоминающимся, да они здесь не так уж и нужны. Гораздо важнее трюки, выполняемые атлетически сложенным героем.
В финальном эпизоде фильма герой Фэрбенкса со своей возлюбленной улетает на ковре-самолете – индивидуалистический бунт против несправедливости социума оказывается успешным, поскольку для настоящего героя нет ничего невозможного. Американская идея на основании этого фильма может быть сформулирована так: одиночка может всего достичь сам, важна только вера в себя. Именно в эту эпоху формируется образ американского супергероя. Багдадский вор – предшественник супергероев. В то же время есть и отличие: супергерои защищают мир таким, каков он есть (часто даже на службе у правительства), а багдадский вор в начале фильма – бунтарь, благородный разбойник.
Однако черты, роднящие его с супергероями, просматриваются: прежде всего, это способности, превышающие человеческие, стремление к справедливости.
«Я люблю принцессу» – говорит герой. Мудрец отвечает ему: «Тогда стань принцем». Из этого следует, что принцем не рождаются, а становятся, причем им может стать каждый, даже вор. Фильм «Багдадский вор» довольно близок к схеме традиционной волшебной сказки. Здесь присутствуют и герой, и антагонист, и даритель, и невеста. Традиционно решен и мотив испытаний героя, который в буквальном смысле слова «зарабатывает» свое счастье.
Казалось бы, «Багдадский вор» имеет немало общего с немецкими экспрессионистическими фильмами: оформление богато и пышно, оно поражает воображение неискушенного зрителя, трюки изобретательны. Однако пространство здесь выглядит иначе. Никаких лабиринтов, винтовых лестниц или разбухших куполов, ничего странного или искривленного – все грандиозно, величественно, красиво, все восхищает.
Ольга Беляева в фильме «Кабинет восковых фигур
Основное время действия новеллы о Гаруне аль Рашиде из «Кабинета восковых фигур» – ночь. Лица и предметы особенно выразительны при ночном освещении, и кажется, что они быстро меняются. В «Багдадском воре» сцены практически поровну распределены между днем и ночью, и все же «ночной» эту сказку никак не назовешь – слишком уж безоблачно ясны ее атмосфера и смысл.
Новелла о калифе из «Кабинета восковых фигур» – плутовская сказка. Волшебное, таинственное и зловещее существует лишь в атмосфере, достигаемой с помощью визуальных эффектов. Характеры героев до предела упрощены: это маски, смешные и гротескные. Можно сказать, что эта маленькая новелла является предвестием целого направления в кинематографе, когда чувство мистического, таинственного, жуткого достигается за счет одной только атмосферы.
«Кабинет восковых фигур». Постройка декораций
Кадр из фильма «Кабинет восковых фигур»
«Багдадский вор» – волшебная сказка, в которой являют себя восточная роскошь и размах. Сюжет, представляющий собой бунт и победу героя-одиночки, можно назвать архетипическим для западной и особенно американской культуры (американская культура вырабатывает оптимистический вариант этого сюжета). Кинематограф-развлечение идет по американскому пути – «Багдадский вор» со своим хэппи-эндом становится образцом блокбастера. Не случайно впоследствии возникают и возникают все новые и новые ремейки этого произведения. Однако интересно, что впоследствии американское кино все же впитывает, заимствует у немецкого экспрессионизма завороженность злом и чудовищным. Выходя за рамки темы данного исследования, можно отметить, что вампиры и прочие монстры вскоре перекочевывают на экраны Америки, помогая подросткам и взрослым вновь пережить и изжить встречу с миром хаоса.
Превращаясь в зрелище, сказка вновь становится «взрослым» жанром (после того, как в XIX веке ей приходилось довольствоваться детской комнатой). Все три рассмотренных здесь фильма предназначены для взрослой аудитории. Немое кино уже предвещает ситуацию в современной визуальной культуре, когда сказочные сюжеты интересны для всех возрастных категорий.
Бросим обобщающий взгляд на архетипические модели, проявляющиеся в немецком фантастическом кино, которые становятся особенно отчетливыми в сравнении с американскими фильмами. Переводя трансформированный сказочный сюжет на язык политических и социальных реалий, мы можем сказать: силы хаоса воплощаются здесь в образах безграничной тирании или безграничной анархии, противостоять которым может только жертвенность или идея порядка. Немецкая культура, находясь под определенным воздействием социально-политической ситуации, рассматривает пессимистическую версию сказочного нарратива. Визуально это выражается в таких изображениях идеи хаоса, как темнота, ночь, туман; бесцельное кружение; лабиринтные и тупиковые пространства. Отвечая на вопрос о причинах популярности и влияния немецкого кино на мировой кинематограф, можно предположить, что здесь была найдена оптимальная визуальная стратегия для изложения «страшного рассказа», функция которого состоит в психологическом переживании встречи с хаосом, прохождении инициации на уровне воображаемого. Восприняв многое из арсенала художественных средств немецких кинематографистов, западная культура XX века позже вырабатывает более оптимистичный вариант развития сюжета «страшного рассказа», где зритель может отождествлять себя с героем-победителем. Американский же кинематограф вновь возвращает волшебной сказке дидактичность, которой она, было, лишилась в немецких фильмах.
В немецком варианте «восточной» сказки мы можем прочесть размышление о судьбе и власти, почувствовать иронию и подумать над моральной неоднозначностью сюжета, оценить изощренность визуальных стратегий. Американский фильм сделан по другим законам: минимум психологии, простая мораль, максимум визуальных эффектов, не несущих смысловой нагрузки, но доставляющих удовольствие зрителю их умелым исполнением. Интересно, что американский вариант прочтения сказочного сюжета смыкается с самыми ранними стадиями существования кинематографа (когда он отождествлялся с фокусом, иллюзией). Немой кинематограф намечает различные пути, по которому предстоит идти киноискусству XX века.
О драматургических моделях семьи в кинематографе Востока и Запада
УДК 778.5.04.072: 8.01-2/29
Воденко М.О.
Москва, ВГИК
На примере фильмов Я. Одзу «Токийская повесть», Л. Висконти «Семейный портрет в интерьере» и А.Тарковского «Зеркало» рассматриваются драматургические модели семьи, авторы которых представляют различные культурные традиции. Особенности каждой модели раскрываются в форме повествовательного, драматического и лирического видов сюжета. Однако при всём разнообразии режиссёрских стилей, прослеживается единая тема, объединяющая эти драматургические модели, – это тема устойчивости семейных связей между поколениями, их необходимость, драматизм их распада и одиночество как трагический итог разрыва семейных отношений.
Ключевые слова: драматургическая модель; семейные связи; режиссерский стиль; архетипические сюжетные мотивы; драматический, повествовательный, лирический виды сюжета; жизнечувствование; мировосприятие.
The dramatic models of a family are considered by looking at three films – “Tokyo Story” by Yasujiro Ozu, “Family Group in an Interior” by Luchino Visconti and “The Mirror” by Andrei Tarkovsky – whose authors represent different cultural traditions. The features of each model are disclosed in the narrative, dramatic and lyrical types of plot. However, with all the diversity of the directors’ styles, we can trace a theme common to these dramatic models – the stability and value of family ties between generations, the drama of breaking off these ties, and loneliness as the tragic outcome of family breakdown.
Key words: the dramatic model; family ties; archetypal story motifs; the directors' style; dramatic narrative, and lyrical types of plot; livelihood; world perception.
История семейных отношений всегда была объектом пристального внимания художников, будь то литература, живопись, театр, кинематограф. В этом нет ничего удивительного, поскольку опыт семейных отношений есть у каждого человека – в семье, мы рождаемся, семью мы строим, в семье рождается наше продолжение. Семья – это целое, в основе которого самые крепкие природные, родовые инстинкты, здесь, в семье происходит первая социализация человека, и здесь же закладываются начала духовного роста будущей личности.
С позиции искусства семью можно рассматривать как систему взаимосвязей, устойчивую драматургическую модель, где аккумулируются важнейшие для человека темы: смысла жизни, любви и жертвенности, ответственности и взросления и т. д. – актуальность их не подвластна времени. Менталитет, религия, мировоззрение, природные географические условия жизни, исторические события – всё оказывает влияние на особенность семейных моделей, каждая их них внешне неповторима. Но суть остаётся неизменной, она касается важнейших архетипических сюжетных мотивов и взаимосвязей (мать и сын, отец и сын, отец и дочь и т. д.). В их основе лежат события, значимые для жизни всех членов семьи, во многом судьбоносные, раскрывающие характеры персонажей в самых сущностных проявлениях. Рассмотрим, как работают драматургические модели семьи в фильмах, авторы которых представляют различные культурные традиции – востока «Токийская повесть» Ясудзиро Одзу, запада – «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти и «серединной» России – «Зеркало» Андрея Тарковского.
Тема семьи в творчестве японского режиссёра Я. Одзу была главной и постоянной. Используя разработанные им драматургические схемы и варьируя их, он размышлял о меняющемся мире, рассматривая эти изменения на примере историй семейных отношений. Особенности режиссёрского стиля Я. Одзу часто сравнивают с японской поэзией и живописью – традиционными искусствами с жёсткими канонами: линейность повествования, простой монтаж, ритмичность и аскетизм изображения, малоподвижная камера, паузы в действии, «пустое» пространство, наполненное движением времени. Естественное, спокойное течение бытия, за нюансами которого внимательно наблюдает режиссёр, позволяет почувствовать тонкие, незримые связи между героями или, наоборот, – увидеть их отсутствие. Герои его фильмов не попадают в острые драматические ситуации. В центре внимания режиссёра повседневная обыденная жизнь.
Сюжет «Токийской повести» повествователен, однако внутреннее напряжение ощутимо проходит через все сюжетные линии, через сопоставления пространства города и живой природы. Драматизм фильма Я. Одзу покажется очевидней, если получить представление о том, что такое японская семья. По традиции семья для японцев – святое. Это крепость, стена, за которой можно спрятаться и чувствовать себя спокойно. Уклад в такой семье патриархальный, женщина подчиняется мужчине, почитание старших обязательно. Рождение детей – великое счастье. Родители и дети долго живут вместе, дети уважают родителей и, как правило, помогают им в старости. Воспитанием детей занимается женщина, домашнее хозяйство тоже ведёт она. Главное дело мужчины – работа, служба. Одна из особенностей менталитета японцев – чувство коллективизма, убеждение, что в одиночку жить в этом мире нельзя. Поэтому и семья рассматривается как коллектив, где важны правила, традиции, уклад. Послевоенные фильмы режиссёра посвящены именно повседневным семейным отношениям, которые в тот период в силу исторических и социальных причин подверглись трансформации: патриархальность японской семьи начала разрушаться. Фильм Я.Одзу «Токийская повесть» рассказывает именно об этом болезненном состоянии японского общества.
Это история о том, как пожилые отец и мать приезжают к своим детям в город навестить их, пообщаться, просто побыть вместе. Однако что-то уже изменилось в отношении детей к своим родителям. Традиции гостеприимства и уважения, кажется, остаются, но только внешне. На самом деле старики в тягость, они отнимают время, нарушают сложившийся ритм жизни молодых.
Как писал американский кинокритик Д. Ричи, исследователь творчества Я.Одзу, его истории незатейливы и «всякая история у Одзу, в каком-то смысле лишь предлог. Одзу хочет не столько поведать историю, сколько показать, как его персонажи реагируют на происходящие события и какие модели поведения рождаются из таких взаимоотношений»[42 - Ричи Д. Одзу: фрагмент из книги. // Сеанс. 18 апреля 2014.]. Поэтому так внимателен режиссёр к самым простым бытовым подробностям жизни своих героев. Благодаря несколько необычной точке съёмки – камере, как правило, расположенной на «уровне циновки», обыкновенные домашние ситуации обретают значимость. Через них и проявляются те изменения отношений, которые свидетельствуют о зарождении индивидуализма. Кажется, сама жизнь в городе, её условия навязывают новые отношения, заставляя думать прежде всего о своих интересах. Сына-врача вызывают в больницу, дочь не может оставить свой салон-парикмахерскую, невестка (жена погибшего на войне сына) опаздывает на встречу – задержали на работе. Проста и горька молчаливая сцена прогулки бабушки с маленьким внуком: малыш собирает листья, никак не реагируя на бабушку; старшему внуку-школьнику старики тоже мешают – негде делать уроки. Разрыв поколений очевиден, контакт потерян, дети не знают своих бабушку и дедушку, они им просто не интересны.
В «Токийской повести» есть несколько женских образов, которые несут важную смысловую нагрузку – ведь согласно японской традиции, женщина – хранительница семейного очага, её роль в семейных отношениях очень важна. Взаимоотношения пожилых Томи и Сюкиси, матери и отца семейства, по мысли режиссёра, – образец традиционной японской семьи. Это одно целое, основанное на таком искреннем уважении друг к другу, что оно кажется больше, чем любовь. В одной из сцен, когда герои смотрят на панораму Токио, жена с грустью реагирует на величину города: «Если мы вдруг потеряемся, мы никогда не сможем найти друг друга…» В большом городе старикам неуютно – режиссёр подчёркивает это через зажатое пространство квартиры детей, ассиметричное, увиденное с нижнего ракурса пространство прогулки бабушки и внука, вообще отсутствие какого-либо пространства во время экскурсии по Токио, – лишь невнятные виды из автобусного окна. Но сами герои всячески скрывают своё одиночество – они невероятно терпеливы и уважительны к детям, благодарны им. Зато как светится лицо Томи счастьем, когда она смотрит на мужа, как любовно согревает его своей улыбкой…
Иной, противоположный образ старшей дочери Сигэ: энергичная, немного капризная, нетерпеливая. Теперь, в городе, она хозяйка салона-парикмахерской и чувствует себя вполне эмансипированной. Это ей принадлежит идея послать родителей на курорт – точнее, красиво избавиться от их присутствия. Увидев пьяного отца, дочь не скрывает ненависти к нему, впадает в истерику. Очевидно, городская жизнь испортила Сигэ, сделав своевольной, раздражительной. Можно ли представить её хранительницей семейного очага?..
Третий женский персонаж – Норико, жена погибшего на войне сына. Она не так близка родным детям, но по сути именно она оказывается ближе всех стареющим родителям. Она искренне рада их приезду, старается развлечь – везёт на экскурсию по городу, принимает Томи ночью в своей маленькой квартирке, даёт ей денег. Она живёт с чувством вины, что не всегда вспоминает погибшего мужа, исповедуется в этом Сюкиси, считая себя эгоисткой. В тонком сюжетном рисунке фильма через детали, благодаря внимательной камере, фиксирующей мельчайшие движения героев, перемены их внутреннего состояния, не трудно прочитать симпатию режиссёра к своей героине. Она читается в словах отца, искренне желающего Норико счастья: «Странно, у нас есть свои дети, но ты сделала для нас больше всего, а ты даже не кровная родственница. Спасибо тебе». В финале именно ей он передаёт часы умершей жены. Это больше, чем память, это образ времени, продолжения жизни рода, семьи. Отец верит, что Норико сбережёт и продолжит это время.
Согласно буддистской философии, очевидно близкой Я. Одзу, всё в мире преходяще, недолговечно, и человек тоже. Изменчива жизнь, но душа неизменна. Однако здесь, в земной жизни, когда рушатся человеческие семейные связи, объединяющие и гармонизирующие людей, человек обрекается на одиночество. Этой горькой печалью наполняются многие схемы семейных отношений в фильмах Я. Одзу, звучит эта печать и в финале «Токийской повести».
Анализируя фильмы Я. Одзу, критики замечали, что его персонажи всегда индивидуальны и ведут себя так, будто знают что-то большее – свойство азиатов. Это «тайное знание», мудрость объединяет двух главных героинь «Токийской повести»: мать и её невестку в их умении бескорыстно дарить добро, внимание, заботу, в умении прощать. Так Я. Одзу, явный сторонник патриархальных семейных отношений, всё-таки оставлял надежду на то, что, несмотря на начавшийся распад семейных отношений всё зависит от самого человека, его желания дарить добро и любовь.
Фильм Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере» состоит из острых драматических ситуаций и ярких сюжетных поворотов. В этом отношении он противоположен внешне спокойному течению времени «Токийской повести». Это ещё одна драматургическая модель истории семейных отношений, рассказанная аристократом, режиссёром Лукино
Висконти в одном из последних его фильмов. В «Токийской повести» мы наблюдали процесс распада традиционной японской семьи, в фильме Л. Висконти в драматическом конфликте сталкиваются различные семейные уклады, разные взгляды и устремления, из осколков которых режиссёр пытается собрать семейный портрет.
В «Семейном портрете в интерьере» Л. Висконти противопоставляет замкнутый, эстетски-рафинированный мир Профессора, бывшего физика, ценителя высокого искусства, вышедшего из «игры жизни» и укрывшегося в семейных апартаментах, и мир реальный, бурлящий противоречивыми социальными и политическими событиями Италии 70-х: в размеренную уединённую жизнь Профессора буквально врывается семья маркизы Бьянки Брумонти, желающая арендовать верхний этаж. Врывается грубо, резко, безаппеляционно. Зарождение новых, непривычных для обеих сторон человеческих отношений становится главным драматическим событием фильма.
Профессор и семья Брумонти – представители аристократических кругов, между ними нет классового или социального конфликта. Это конфликт взглядов, миропониманий и мироощущений. Профессор живёт, наслаждаясь культурной традицией классического искусства, полного гармонии и устремлённости к высокому, но выключил себя из реальной жизни и поэтому почти мёртв. Его квартира похожа на музей, а он сам на экспонат. Постоянно ссорящаяся и выясняющая отношения семейка маркизы Брумонти ведёт себя крайне эгоистично, тратя силы исключительно на свои прихоти. Они похожи на клубок змей, то кусающих, то обвивающих друг друга. Бьянка, её молодой любовник Конрад, дочь Льетта, её жених связаны не столько родством, сколько порочной любовью, жаждой наслаждений, политическими интригами – образчик современной, духовно деформированной европейской семейственности, где каждый преследует свои личные интересы. Их дух поражен болезнями времени, в котором они живут. Возможно именно поэтому они в чём-то интересны Профессору, который со временем вопреки своим убеждениям включается в жизнь непрошенных соседей.
Заметим, что во многих сюжетах «семейных» моделей важное место занимает сцена, в которой герои собираются за столом. Стол, прообразом которого является очаг, становится своего рода сакральным местом, где проявляется незримая, но безусловная метафизическая связь всех собравшихся. Здесь трудно что-либо утаить, здесь проявляются семейные связи и раскрывается самое сокровенное. Образ стола как центра, собирающего вокруг себя ближних, безусловен для всех культур и менталитетов, будь то восток или запад. В «Токийской повести» семья собирается вместе после похорон матери; после недолгих воспоминаний дети быстро переключаются на материальное, у всех много дел: старший сын спешит на работу, младший на гольф, старшая дочка заявляет, что возьмёт кое-что из одежды умершей матери. Молчание хранят лишь младшая дочь и Норико.
В фильме Л. Висконти Профессор дважды пытается собрать всех за своим столом. Для него это важная часть семейной традиции, ритуал, поэтому так обстоятельно готовится момент встречи. Но в первый раз молодая компания, озабоченная своими развлечениями, беспардонно забывает о назначенном обеде, а во второй раз встреча за семейным столом превращается в скандал с выяснением отношений. Традиции не работают, мир изменился, объединение невозможно. И всё же близость зарождается. Иным, не формальным, а духовным путём, через сочувствие и соучастие.
Если анализировать сюжет, перед нами – плутовская, смешная сказка о хитрой жене, которой удалось одурачить мужа (сюжет, характерный как для Востока, так и для Запада). В «Тысяче и одной ночи» множество историй о хитрой жене, прячущей любовника в своей комнате от ревнивого мужа. Эти сказки зачастую приближаются к новелле или анекдоту. Однако смысл фильма гораздо сложнее.
Гарун, согласно сказкам «Тысяча и одной ночи», любил переодеваться простолюдином и бродить по ночному Багдаду. Однако, если его образ в сказках вызывает симпатию, то в фильме это капризный и похотливый тиран. Мало того – авторы фильма делают его чудовищно толстым, с помощью костюма превращая его фигуру в гротескную. Она напоминает иллюстрацию Обри Бердслея к «Али-Бабе» – восточная пышность наряда странно сочетается с чудовищным телом. Чудовищное в сказке всегда – нечеловеческое, всегда несет в себе знак принадлежности к другому миру (хтоническому). Завороженность немецкого кино темами власти и тирана, которую отмечает известный исследователь немецкой культуры Зигмунд Кракауэр[41 - Кракауэр 3. От Калигари до Гитлера. М., Искусство, 1977. По тексту.], проявляется в том, что власть наделяется нечеловеческими чертами, отождествляется с потусторонним злом. Таким образом, сказка из бытовой превращается в волшебную, мистическую.
В отличие от простодушного иллюзиониста Мельеса, Лени интересуется в первую очередь психологией героев, ему важны «крупные планы» – как в прямом, так и в переносном смысле. Гротескные зарисовки характеров отсылают нас к сказочным архетипам хитрой жены, простака-мужа, коварного властителя.
Загадочность, таинственность сказка Пауля Лени приобретает благодаря визуальному ряду. Архитектура «Багдада» и фигура калифа странным образом соответствуют друг другу, это приземистые, круглящиеся формы – словно изделия пекаря, героя этой истории. Храбрый багдадский пекарь, молодой и красивый силач, рискует жизнью ради любимой жены, но она обманывает и его, и монстроподобного властителя. В финальной сцене калиф нависает над пекарем и его женой, обнимая их и простирая над ними полы своего одеяния. Гротескная, расплывшаяся фигура халифа – скорее смешная, чем страшная, но она обладает зловещим ореолом. Человеческий разум и силы жалки по сравнению с могучими силами хаоса – а чудовищное тело в сказочной системе координат относится к явлениям хаоса.
Интересно, что в сказке присутствует очень важный для XX века мотив противопоставления подлинного и мнимого: здесь принесенное пекарем сокровище, волшебное средство, перстень исполнения желаний оказывается фальшивым. В то же время сюжет оборачивается так, что оно действует не хуже настоящего. Противопоставление правды и неправды снимается, нивелируется. Таким образом, сюжет приобретает «двойное дно», наполняется иронией.
В 1924 году известный американский режиссер Рауль Уолш и актер Дуглас Фэрбенкс, который выступал как продюсер, обращаются к экранизации сказки по мотивам «Тысячи и одной ночи» под названием «Багдадский вор» (с Д. Фэрбенксом в заглавной роли). Имеется даже некоторое фабульное сходство между фильмами Лени и Уолша: в центре повествования – бедняк, противостоящий сильным мира сего. Однако смысл сюжетов этих двух «восточных сказок» – немецкой и американской – полностью противоположен.
Афиша фильма «Багдадский вор»
Дуглас Фербенкс в заглавной роли в фильме «Багдадский вор»
Персонаж Дугласа Фэрбэнкса – Багдадский вор – кажется неуязвимым. Он может в одиночку противостоять всем сильным и могущественным врагам. Его красота, сила, ловкость, храбрость являются залогом неизменной удачи. Героя немецкого фильма те же качества не спасают.
Фильм «Багдадский вор» – также вольная вариация на тему восточных сказок, в «Тысяче и одной ночи» такого сюжета нет – но есть множество сходных сюжетов о ловких ворах. Знаменательно, что американский фильм предваряется эпиграфом-моралью: «Счастье должно быть заработано». И действительно, герой, бросив воровскую жизнь, небезуспешно пытается заслужить право на счастье с прекрасной принцессой. Слишком откровенное морализаторство скрашено большим количеством спецэффектов.
Сюжет – герой пускается на поиски сокровища для возлюбленной – решен в совершенно ином ключе, нежели аналогичный мотив в «Кабинете восковых фигур». По словам современников, Фэрбенкс декларировал, что его цель – это экспрессионизм наоборот, то есть оптимизм. А потому его герой не только находит сокровище, но и спасает свою невесту, а злодей оказывается посрамленным. Крупные планы в «Багдадском воре» принадлежат к наименее запоминающимся, да они здесь не так уж и нужны. Гораздо важнее трюки, выполняемые атлетически сложенным героем.
В финальном эпизоде фильма герой Фэрбенкса со своей возлюбленной улетает на ковре-самолете – индивидуалистический бунт против несправедливости социума оказывается успешным, поскольку для настоящего героя нет ничего невозможного. Американская идея на основании этого фильма может быть сформулирована так: одиночка может всего достичь сам, важна только вера в себя. Именно в эту эпоху формируется образ американского супергероя. Багдадский вор – предшественник супергероев. В то же время есть и отличие: супергерои защищают мир таким, каков он есть (часто даже на службе у правительства), а багдадский вор в начале фильма – бунтарь, благородный разбойник.
Однако черты, роднящие его с супергероями, просматриваются: прежде всего, это способности, превышающие человеческие, стремление к справедливости.
«Я люблю принцессу» – говорит герой. Мудрец отвечает ему: «Тогда стань принцем». Из этого следует, что принцем не рождаются, а становятся, причем им может стать каждый, даже вор. Фильм «Багдадский вор» довольно близок к схеме традиционной волшебной сказки. Здесь присутствуют и герой, и антагонист, и даритель, и невеста. Традиционно решен и мотив испытаний героя, который в буквальном смысле слова «зарабатывает» свое счастье.
Казалось бы, «Багдадский вор» имеет немало общего с немецкими экспрессионистическими фильмами: оформление богато и пышно, оно поражает воображение неискушенного зрителя, трюки изобретательны. Однако пространство здесь выглядит иначе. Никаких лабиринтов, винтовых лестниц или разбухших куполов, ничего странного или искривленного – все грандиозно, величественно, красиво, все восхищает.
Ольга Беляева в фильме «Кабинет восковых фигур
Основное время действия новеллы о Гаруне аль Рашиде из «Кабинета восковых фигур» – ночь. Лица и предметы особенно выразительны при ночном освещении, и кажется, что они быстро меняются. В «Багдадском воре» сцены практически поровну распределены между днем и ночью, и все же «ночной» эту сказку никак не назовешь – слишком уж безоблачно ясны ее атмосфера и смысл.
Новелла о калифе из «Кабинета восковых фигур» – плутовская сказка. Волшебное, таинственное и зловещее существует лишь в атмосфере, достигаемой с помощью визуальных эффектов. Характеры героев до предела упрощены: это маски, смешные и гротескные. Можно сказать, что эта маленькая новелла является предвестием целого направления в кинематографе, когда чувство мистического, таинственного, жуткого достигается за счет одной только атмосферы.
«Кабинет восковых фигур». Постройка декораций
Кадр из фильма «Кабинет восковых фигур»
«Багдадский вор» – волшебная сказка, в которой являют себя восточная роскошь и размах. Сюжет, представляющий собой бунт и победу героя-одиночки, можно назвать архетипическим для западной и особенно американской культуры (американская культура вырабатывает оптимистический вариант этого сюжета). Кинематограф-развлечение идет по американскому пути – «Багдадский вор» со своим хэппи-эндом становится образцом блокбастера. Не случайно впоследствии возникают и возникают все новые и новые ремейки этого произведения. Однако интересно, что впоследствии американское кино все же впитывает, заимствует у немецкого экспрессионизма завороженность злом и чудовищным. Выходя за рамки темы данного исследования, можно отметить, что вампиры и прочие монстры вскоре перекочевывают на экраны Америки, помогая подросткам и взрослым вновь пережить и изжить встречу с миром хаоса.
Превращаясь в зрелище, сказка вновь становится «взрослым» жанром (после того, как в XIX веке ей приходилось довольствоваться детской комнатой). Все три рассмотренных здесь фильма предназначены для взрослой аудитории. Немое кино уже предвещает ситуацию в современной визуальной культуре, когда сказочные сюжеты интересны для всех возрастных категорий.
Бросим обобщающий взгляд на архетипические модели, проявляющиеся в немецком фантастическом кино, которые становятся особенно отчетливыми в сравнении с американскими фильмами. Переводя трансформированный сказочный сюжет на язык политических и социальных реалий, мы можем сказать: силы хаоса воплощаются здесь в образах безграничной тирании или безграничной анархии, противостоять которым может только жертвенность или идея порядка. Немецкая культура, находясь под определенным воздействием социально-политической ситуации, рассматривает пессимистическую версию сказочного нарратива. Визуально это выражается в таких изображениях идеи хаоса, как темнота, ночь, туман; бесцельное кружение; лабиринтные и тупиковые пространства. Отвечая на вопрос о причинах популярности и влияния немецкого кино на мировой кинематограф, можно предположить, что здесь была найдена оптимальная визуальная стратегия для изложения «страшного рассказа», функция которого состоит в психологическом переживании встречи с хаосом, прохождении инициации на уровне воображаемого. Восприняв многое из арсенала художественных средств немецких кинематографистов, западная культура XX века позже вырабатывает более оптимистичный вариант развития сюжета «страшного рассказа», где зритель может отождествлять себя с героем-победителем. Американский же кинематограф вновь возвращает волшебной сказке дидактичность, которой она, было, лишилась в немецких фильмах.
В немецком варианте «восточной» сказки мы можем прочесть размышление о судьбе и власти, почувствовать иронию и подумать над моральной неоднозначностью сюжета, оценить изощренность визуальных стратегий. Американский фильм сделан по другим законам: минимум психологии, простая мораль, максимум визуальных эффектов, не несущих смысловой нагрузки, но доставляющих удовольствие зрителю их умелым исполнением. Интересно, что американский вариант прочтения сказочного сюжета смыкается с самыми ранними стадиями существования кинематографа (когда он отождествлялся с фокусом, иллюзией). Немой кинематограф намечает различные пути, по которому предстоит идти киноискусству XX века.
О драматургических моделях семьи в кинематографе Востока и Запада
УДК 778.5.04.072: 8.01-2/29
Воденко М.О.
Москва, ВГИК
На примере фильмов Я. Одзу «Токийская повесть», Л. Висконти «Семейный портрет в интерьере» и А.Тарковского «Зеркало» рассматриваются драматургические модели семьи, авторы которых представляют различные культурные традиции. Особенности каждой модели раскрываются в форме повествовательного, драматического и лирического видов сюжета. Однако при всём разнообразии режиссёрских стилей, прослеживается единая тема, объединяющая эти драматургические модели, – это тема устойчивости семейных связей между поколениями, их необходимость, драматизм их распада и одиночество как трагический итог разрыва семейных отношений.
Ключевые слова: драматургическая модель; семейные связи; режиссерский стиль; архетипические сюжетные мотивы; драматический, повествовательный, лирический виды сюжета; жизнечувствование; мировосприятие.
The dramatic models of a family are considered by looking at three films – “Tokyo Story” by Yasujiro Ozu, “Family Group in an Interior” by Luchino Visconti and “The Mirror” by Andrei Tarkovsky – whose authors represent different cultural traditions. The features of each model are disclosed in the narrative, dramatic and lyrical types of plot. However, with all the diversity of the directors’ styles, we can trace a theme common to these dramatic models – the stability and value of family ties between generations, the drama of breaking off these ties, and loneliness as the tragic outcome of family breakdown.
Key words: the dramatic model; family ties; archetypal story motifs; the directors' style; dramatic narrative, and lyrical types of plot; livelihood; world perception.
История семейных отношений всегда была объектом пристального внимания художников, будь то литература, живопись, театр, кинематограф. В этом нет ничего удивительного, поскольку опыт семейных отношений есть у каждого человека – в семье, мы рождаемся, семью мы строим, в семье рождается наше продолжение. Семья – это целое, в основе которого самые крепкие природные, родовые инстинкты, здесь, в семье происходит первая социализация человека, и здесь же закладываются начала духовного роста будущей личности.
С позиции искусства семью можно рассматривать как систему взаимосвязей, устойчивую драматургическую модель, где аккумулируются важнейшие для человека темы: смысла жизни, любви и жертвенности, ответственности и взросления и т. д. – актуальность их не подвластна времени. Менталитет, религия, мировоззрение, природные географические условия жизни, исторические события – всё оказывает влияние на особенность семейных моделей, каждая их них внешне неповторима. Но суть остаётся неизменной, она касается важнейших архетипических сюжетных мотивов и взаимосвязей (мать и сын, отец и сын, отец и дочь и т. д.). В их основе лежат события, значимые для жизни всех членов семьи, во многом судьбоносные, раскрывающие характеры персонажей в самых сущностных проявлениях. Рассмотрим, как работают драматургические модели семьи в фильмах, авторы которых представляют различные культурные традиции – востока «Токийская повесть» Ясудзиро Одзу, запада – «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти и «серединной» России – «Зеркало» Андрея Тарковского.
Тема семьи в творчестве японского режиссёра Я. Одзу была главной и постоянной. Используя разработанные им драматургические схемы и варьируя их, он размышлял о меняющемся мире, рассматривая эти изменения на примере историй семейных отношений. Особенности режиссёрского стиля Я. Одзу часто сравнивают с японской поэзией и живописью – традиционными искусствами с жёсткими канонами: линейность повествования, простой монтаж, ритмичность и аскетизм изображения, малоподвижная камера, паузы в действии, «пустое» пространство, наполненное движением времени. Естественное, спокойное течение бытия, за нюансами которого внимательно наблюдает режиссёр, позволяет почувствовать тонкие, незримые связи между героями или, наоборот, – увидеть их отсутствие. Герои его фильмов не попадают в острые драматические ситуации. В центре внимания режиссёра повседневная обыденная жизнь.
Сюжет «Токийской повести» повествователен, однако внутреннее напряжение ощутимо проходит через все сюжетные линии, через сопоставления пространства города и живой природы. Драматизм фильма Я. Одзу покажется очевидней, если получить представление о том, что такое японская семья. По традиции семья для японцев – святое. Это крепость, стена, за которой можно спрятаться и чувствовать себя спокойно. Уклад в такой семье патриархальный, женщина подчиняется мужчине, почитание старших обязательно. Рождение детей – великое счастье. Родители и дети долго живут вместе, дети уважают родителей и, как правило, помогают им в старости. Воспитанием детей занимается женщина, домашнее хозяйство тоже ведёт она. Главное дело мужчины – работа, служба. Одна из особенностей менталитета японцев – чувство коллективизма, убеждение, что в одиночку жить в этом мире нельзя. Поэтому и семья рассматривается как коллектив, где важны правила, традиции, уклад. Послевоенные фильмы режиссёра посвящены именно повседневным семейным отношениям, которые в тот период в силу исторических и социальных причин подверглись трансформации: патриархальность японской семьи начала разрушаться. Фильм Я.Одзу «Токийская повесть» рассказывает именно об этом болезненном состоянии японского общества.
Это история о том, как пожилые отец и мать приезжают к своим детям в город навестить их, пообщаться, просто побыть вместе. Однако что-то уже изменилось в отношении детей к своим родителям. Традиции гостеприимства и уважения, кажется, остаются, но только внешне. На самом деле старики в тягость, они отнимают время, нарушают сложившийся ритм жизни молодых.
Как писал американский кинокритик Д. Ричи, исследователь творчества Я.Одзу, его истории незатейливы и «всякая история у Одзу, в каком-то смысле лишь предлог. Одзу хочет не столько поведать историю, сколько показать, как его персонажи реагируют на происходящие события и какие модели поведения рождаются из таких взаимоотношений»[42 - Ричи Д. Одзу: фрагмент из книги. // Сеанс. 18 апреля 2014.]. Поэтому так внимателен режиссёр к самым простым бытовым подробностям жизни своих героев. Благодаря несколько необычной точке съёмки – камере, как правило, расположенной на «уровне циновки», обыкновенные домашние ситуации обретают значимость. Через них и проявляются те изменения отношений, которые свидетельствуют о зарождении индивидуализма. Кажется, сама жизнь в городе, её условия навязывают новые отношения, заставляя думать прежде всего о своих интересах. Сына-врача вызывают в больницу, дочь не может оставить свой салон-парикмахерскую, невестка (жена погибшего на войне сына) опаздывает на встречу – задержали на работе. Проста и горька молчаливая сцена прогулки бабушки с маленьким внуком: малыш собирает листья, никак не реагируя на бабушку; старшему внуку-школьнику старики тоже мешают – негде делать уроки. Разрыв поколений очевиден, контакт потерян, дети не знают своих бабушку и дедушку, они им просто не интересны.
В «Токийской повести» есть несколько женских образов, которые несут важную смысловую нагрузку – ведь согласно японской традиции, женщина – хранительница семейного очага, её роль в семейных отношениях очень важна. Взаимоотношения пожилых Томи и Сюкиси, матери и отца семейства, по мысли режиссёра, – образец традиционной японской семьи. Это одно целое, основанное на таком искреннем уважении друг к другу, что оно кажется больше, чем любовь. В одной из сцен, когда герои смотрят на панораму Токио, жена с грустью реагирует на величину города: «Если мы вдруг потеряемся, мы никогда не сможем найти друг друга…» В большом городе старикам неуютно – режиссёр подчёркивает это через зажатое пространство квартиры детей, ассиметричное, увиденное с нижнего ракурса пространство прогулки бабушки и внука, вообще отсутствие какого-либо пространства во время экскурсии по Токио, – лишь невнятные виды из автобусного окна. Но сами герои всячески скрывают своё одиночество – они невероятно терпеливы и уважительны к детям, благодарны им. Зато как светится лицо Томи счастьем, когда она смотрит на мужа, как любовно согревает его своей улыбкой…
Иной, противоположный образ старшей дочери Сигэ: энергичная, немного капризная, нетерпеливая. Теперь, в городе, она хозяйка салона-парикмахерской и чувствует себя вполне эмансипированной. Это ей принадлежит идея послать родителей на курорт – точнее, красиво избавиться от их присутствия. Увидев пьяного отца, дочь не скрывает ненависти к нему, впадает в истерику. Очевидно, городская жизнь испортила Сигэ, сделав своевольной, раздражительной. Можно ли представить её хранительницей семейного очага?..
Третий женский персонаж – Норико, жена погибшего на войне сына. Она не так близка родным детям, но по сути именно она оказывается ближе всех стареющим родителям. Она искренне рада их приезду, старается развлечь – везёт на экскурсию по городу, принимает Томи ночью в своей маленькой квартирке, даёт ей денег. Она живёт с чувством вины, что не всегда вспоминает погибшего мужа, исповедуется в этом Сюкиси, считая себя эгоисткой. В тонком сюжетном рисунке фильма через детали, благодаря внимательной камере, фиксирующей мельчайшие движения героев, перемены их внутреннего состояния, не трудно прочитать симпатию режиссёра к своей героине. Она читается в словах отца, искренне желающего Норико счастья: «Странно, у нас есть свои дети, но ты сделала для нас больше всего, а ты даже не кровная родственница. Спасибо тебе». В финале именно ей он передаёт часы умершей жены. Это больше, чем память, это образ времени, продолжения жизни рода, семьи. Отец верит, что Норико сбережёт и продолжит это время.
Согласно буддистской философии, очевидно близкой Я. Одзу, всё в мире преходяще, недолговечно, и человек тоже. Изменчива жизнь, но душа неизменна. Однако здесь, в земной жизни, когда рушатся человеческие семейные связи, объединяющие и гармонизирующие людей, человек обрекается на одиночество. Этой горькой печалью наполняются многие схемы семейных отношений в фильмах Я. Одзу, звучит эта печать и в финале «Токийской повести».
Анализируя фильмы Я. Одзу, критики замечали, что его персонажи всегда индивидуальны и ведут себя так, будто знают что-то большее – свойство азиатов. Это «тайное знание», мудрость объединяет двух главных героинь «Токийской повести»: мать и её невестку в их умении бескорыстно дарить добро, внимание, заботу, в умении прощать. Так Я. Одзу, явный сторонник патриархальных семейных отношений, всё-таки оставлял надежду на то, что, несмотря на начавшийся распад семейных отношений всё зависит от самого человека, его желания дарить добро и любовь.
Фильм Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере» состоит из острых драматических ситуаций и ярких сюжетных поворотов. В этом отношении он противоположен внешне спокойному течению времени «Токийской повести». Это ещё одна драматургическая модель истории семейных отношений, рассказанная аристократом, режиссёром Лукино
Висконти в одном из последних его фильмов. В «Токийской повести» мы наблюдали процесс распада традиционной японской семьи, в фильме Л. Висконти в драматическом конфликте сталкиваются различные семейные уклады, разные взгляды и устремления, из осколков которых режиссёр пытается собрать семейный портрет.
В «Семейном портрете в интерьере» Л. Висконти противопоставляет замкнутый, эстетски-рафинированный мир Профессора, бывшего физика, ценителя высокого искусства, вышедшего из «игры жизни» и укрывшегося в семейных апартаментах, и мир реальный, бурлящий противоречивыми социальными и политическими событиями Италии 70-х: в размеренную уединённую жизнь Профессора буквально врывается семья маркизы Бьянки Брумонти, желающая арендовать верхний этаж. Врывается грубо, резко, безаппеляционно. Зарождение новых, непривычных для обеих сторон человеческих отношений становится главным драматическим событием фильма.
Профессор и семья Брумонти – представители аристократических кругов, между ними нет классового или социального конфликта. Это конфликт взглядов, миропониманий и мироощущений. Профессор живёт, наслаждаясь культурной традицией классического искусства, полного гармонии и устремлённости к высокому, но выключил себя из реальной жизни и поэтому почти мёртв. Его квартира похожа на музей, а он сам на экспонат. Постоянно ссорящаяся и выясняющая отношения семейка маркизы Брумонти ведёт себя крайне эгоистично, тратя силы исключительно на свои прихоти. Они похожи на клубок змей, то кусающих, то обвивающих друг друга. Бьянка, её молодой любовник Конрад, дочь Льетта, её жених связаны не столько родством, сколько порочной любовью, жаждой наслаждений, политическими интригами – образчик современной, духовно деформированной европейской семейственности, где каждый преследует свои личные интересы. Их дух поражен болезнями времени, в котором они живут. Возможно именно поэтому они в чём-то интересны Профессору, который со временем вопреки своим убеждениям включается в жизнь непрошенных соседей.
Заметим, что во многих сюжетах «семейных» моделей важное место занимает сцена, в которой герои собираются за столом. Стол, прообразом которого является очаг, становится своего рода сакральным местом, где проявляется незримая, но безусловная метафизическая связь всех собравшихся. Здесь трудно что-либо утаить, здесь проявляются семейные связи и раскрывается самое сокровенное. Образ стола как центра, собирающего вокруг себя ближних, безусловен для всех культур и менталитетов, будь то восток или запад. В «Токийской повести» семья собирается вместе после похорон матери; после недолгих воспоминаний дети быстро переключаются на материальное, у всех много дел: старший сын спешит на работу, младший на гольф, старшая дочка заявляет, что возьмёт кое-что из одежды умершей матери. Молчание хранят лишь младшая дочь и Норико.
В фильме Л. Висконти Профессор дважды пытается собрать всех за своим столом. Для него это важная часть семейной традиции, ритуал, поэтому так обстоятельно готовится момент встречи. Но в первый раз молодая компания, озабоченная своими развлечениями, беспардонно забывает о назначенном обеде, а во второй раз встреча за семейным столом превращается в скандал с выяснением отношений. Традиции не работают, мир изменился, объединение невозможно. И всё же близость зарождается. Иным, не формальным, а духовным путём, через сочувствие и соучастие.