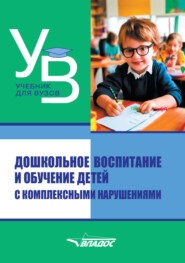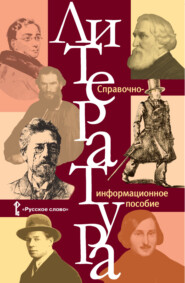По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Постклассическая онтология права
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Известный теоретик уголовного процесса формулирует программу «междисциплинарного научного учения об уголовном судопроизводстве на стыке лингвистики, психологии и юриспруденции», которую можно назвать дискурсивной: 1) использование новой мировоззренческой основы для объяснения уголовно-процессуальной действительности; 2) выявление в праве лингво-психических объектов научного интереса; 3) постулирование основных начал критического исследования реальных феноменов уголовного судопроизводства; 4) исследование практики судоговорения и интерпретация полученных данных о применения законодательства последних лет с применением новых научных методов; 5) создание языковой (психо-лингвистической) теории уголовно-процессуального права; 6) выработка нового понимания уголовного судопроизводства, его сущности и назначения в обществе; 7) обоснование гипотезы о грамматической детерминированности русского уголовно-процессуального права; 8) обновление теории доказательств. В том числе, предложение особой трактовки судебного доказательства и доказывания, основанной на теории аргументации и риторики; 9) разработка концепции судебной истины и определение ее стандартов; 10) апологетика системы постулатов идеологии состязательного судоговорения, как перзуазивной речевой практики; 11) исследование возможных тактик судебного следствия; техник производства отдельных следственных действий; 12) разработка теоретических основ формы и классификации вопросов, подлежащих применению для повышения эффективности судебного допроса. В том числе исследование проблем наводящих вопросов, как способа контроля показаний допрашиваемого; 13) формирование нового стиля научного письма; 14) изучение и обобщение техник производства отдельных судебных действий (в первую очередь – перекрестного допроса)»[215 - Александров А.С. Что такое «судебная лингвистика» и каково ее отношение к научной догме уголовного процесса // Школы и направления уголовно-процессуальной науки / Под редакцией А. В. Смирнова. СПб., 2006. С.76.].
В другой работе А.С. Александров заявляет: «Посредством риторики законодатель убеждает в «правости» закона общество. /…/ Право делает правом речь, судебный дискурс. Если это эффективный, убеждающий дискурс, т. е. он воздействует на публику (аудиторию), значит в тексте закона инсталлируется реальное право. Когда обыватели верят в судебную истину (справедливость приговора), тогда право выполняет свою функцию нормирования, упорядочивания в обществе. Риторическая рукоять (дискурс суда) приводит в действие механизм права = текста»[216 - Александров А.С. Текст закона и право // Классическая и постклассическая методология развития юридической науки на современном этапе. Сборник научных трудов. Минск, 2012. С. 123, 125].
Гораздо более «умеренную» версию юридического дискурса развивает в своих работах Р. Алекси. Он исходит из того, что так же, как «правила не могут применяться сами собой, так и система не может сама придать себе законченность и когерентность. Для этого необходимы люди и определенные процедуры. И необходимой процедурой в данном случае является юридическая аргументация»[217 - Алекси Р. Юридическая аргументация как рациональный дискурс // Российский ежегодник теории права. Вып. 1. 2008. СПб., 2009. С. 451.]. Отсюда вытекает необходимость нормативной теории, «которая позволит хоть немного определить силу или весомость различных аргументов и рациональность юридического обоснования. Такой теорией, судя по всему, является теория рационального юридического дискурса, возникающая благодаря включению теории общего практического дискурса в теорию правовой системы. Данное включение – не просто применение общей теории дискурса к праву, а развитие теории, необходимое на основании этой системы»[218 - Там же.].
«Практический дискурс рационален, – пишет немецкий теоретик права – если в нем выполняются условия рационального практического аргументирования. Если эти условия выполняются, то результат дискурса верен. Следовательно, теория дискурса – это процессуальная теория практической правильности.
Условия рациональности процедуры дискурса можно свести в систему правил дискурса. Практический разум можно определить, как способность принимать практические решения на основании системы этих правил.
Правила дискурса можно классифицировать многочисленными способами. Здесь целесообразно разделить их на две группы: на правила, которые касаются непосредственно структуры аргументов, и правила, которые являются непосредственным предметом процедуры дискурса.
К правилам первой группы (к правилам, которые касаются непосредственно структуры аргументов) причисляют, например, требование отсутствия противоречий, универсализации с точки зрения согласованного использования применяемых способов оценки, требование терминологически-языковой ясности, истинности применяемых эмпирических предпосылок, дедуктивной полноты аргументов, принятия во внимание последствий, взвешенности решений, принятия ролевого обмена и анализа возникновения моральных убеждений.
Все эти правила применимы также монологически, и многое говорит в пользу того, что ни одна теория рационального практического аргументирования или обоснования не может от них отказаться.
Очевидно, что теория дискурса ни в коем случае не заменяет обоснование и аргументацию простым достижением согласия, в чем ее нередко упрекают. Более того, она полностью включает в себя правила рационального аргументирования, ориентированные непосредственно на аргументы. Ее особенность заключается исключительно в том, что она добавляет к этому уровню еще один, а именно правила, ориентированные на процедуру дискурса.
Эта вторая группа правил не носит монологический характер. Ее основной задачей является обеспечение беспристрастности практической аргументации. Служащие этой цели правила можно назвать «специфическими правилами дискурса». Главные из них гласят: 1. Каждый, кто может говорить, может принимать участие в дискурсе. 2. (а) Каждый может поставить под сомнение любое утверждение. (b) Каждый может ввести любое утверждение в дискурс. (с) Каждый может выражать свои взгляды, желания и потребности (2.2). 3. Ни одному из ораторов нельзя препятствовать реализовывать его права, закрепленные в пунктах (1) и (2), никаким давлением, в рамках или за пределами дискурса.
Эти правила гарантируют права каждого из тех, кто принимает участие в дискурсе, а также свободу и равенство в рамках дискурса. Они служат выражением универсального характера теории дискурса»[219 - Там же. С. 454–453.].
Приведенные положения являются приложением к правоведению идей дискурсивной рациональности, основанной на «идеальной речевой ситуации», как практики «идеального коммуникативного сообщества», развиваемой К.-О. Апелем и Ю. Хабермасом. При всем авторитете данной программы и ее обоснованности, нельзя не заметить, что в ней не принимается во внимание контекст коммуникативной ситуации, роль власти и идеологии в манипуляции реальным (а не идеальным) коммуникативным сообществом при выработке, столкновении и борьбе аргументов. Поэтому «делиберативная (она же дискурсивная) теория права» ориентированная на консенсус, сегодня поставлена под сомнение критическим дискурс-анализом, акцентирующим внимание на различия, конститутивные для всех социальных идентичностей (в том числе, и правовых статусов). Не случайно Р. Алекси оговаривается: «Центральная проблема теории дискурса состоит в том, что ее система правил не предоставляет никакого метода, который позволил бы конечным числом операций достигать всегда точно определенного результата»[220 - Там же. С. 453.].
Право с точки зрения критического дискурс-анализа не есть некая объективная данность, а представляет собой результат активной деятельности господствующей социальной группы по формированию образцов юридически значимого поведения и убеждению населения в необходимости его воспроизведения. Правовой институт, включая конституцию как текст основного закона, конструируется первичным единичным действием (например, представителя референтной группы или правящей элиты по объявлению какого-либо действия правомерным, либо противоправным). В силу авторитета субъекта – носителя символического капитала, именующего некоторые действия в качестве правомерных, либо противоправных, других обстоятельств (например, функциональной значимости определенного действия, подлежащего нормативной охране – закрепления посягательства на него как противоправного, заимствования иностранного опыта и т. п.) происходит легитимация сконструированного социального мира (социального института, правила поведения), то есть признание его широкими слоями населения и седиментация («осаждение» – букв. – «выпадение в осадок» – в образцы традиционного поведения). Все это приводит к тому, что сконструированный мир реифицируется и начинает восприниматься как объективная данность, природа вещей, естественная сущность.
При этом следует иметь в виду, что социально значимый субъект, тот, кто сумел победить в борьбе за «право номинации социального мира» (по терминологии П. Бурдье) формулирует правило поведения (в том числе, юридически значимое) отнюдь не произвольно, то есть конструирование социального (и правового) мира не является абсолютно произвольным, ничем не обусловленным креативным актом. Он (его волюнтаризм) ограничен как ресурсом наличных средств, так и здравым смыслом, так и оценкой легитимирующего потенциала. «Кажущаяся бесконечность возможностей творческого потенциала в дискурсивной практике, – справедливо отмечает Н. Фэркло, – …на практике оказывается весьма ограниченной и скованной из-за существующих отношений гегемонии и борьбы за гегемонию»[221 - Fairclough N. Critical discours analysis and the marketization of public discourse: the universities // Discourse and Society. 1993. Vol. 4 (2). Р.137.]. Эта «борьба за гегемонию» вводит такие ограничения на инновацию, как историческое прошлое, господствующая культура, состояние сфер общества, международное окружение. Эти внешние факторы интериоризируются правовой культурой в правосознание социума и подвергаются селективному отбору со стороны правящей элиты и референтной группы, после чего новый образец социально значимого поведения легитимируется и означивается (приобретает значение) как правовое поведение. Этому в немалой степени, конечно, способствует придание образцу поведения юридически-знаковой формы, то есть облечение в соответствующую форму права. Однако реальность права возникает не в момент его официального провозглашения, а только после того, когда новое правило поведения трансформируется в правопорядок.
В конечном счете, окончательный выбор правила поведения как правомерного или противоправного зависит от широких народных масс, которые либо принимают его и включают в контекст правовой культуры общества, или отвергают с помощью дискурсивных практик, вне которых принципы права, а также любые знаковые его фиксации остаются «мертворожденными». Здесь принципиально важное значение имеет социокультурный и исторический контекст, который, по большому счету, и является трансцендентным критерием правовой селекции – важнейшим элементом конструирования правовой реальности.
Конструктивизм
Постклассическая парадигма в социогуманитарном знании и в юриспруденции, в частности, акцентирует внимание на сконструированности, а не данности социального мира (и, следовательно, права). Социальный конструктивизм, отрицая данность социального мира, утверждает его многообразие, возможность изменения к лучшему и, следовательно, личную ответственность за его современное состояние. Выступая в оппозиции к «наивному социальному реализму» он запрещает выдавать частные, индивидуальные интересы и стремления за общественные и, тем самым, говорить от имени социального целого[222 - К. Шмит по этому поводу заметил, что тот, кто говорит «человечество», тот хочет обмануть, т. е. все выдаваемые за универсальные ценности (права человека, демократия и т. п.) суть средства господства – Schmitt С. Glossarium (1947–1951). Berlin, 1991. S. 76; Он же. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 1. С. 54. И. Уоллерстайн заявил еще резче: универсализм – это средство капиталистической эксплуатации третьего мира. – Wallerstein I. Culture as the ideological battleground of the modern world-system // Theory, culture and society. London, 1990. Vol. 7. № 1/3. P. 46. «Узурпация, заключающаяся в факте самоутверждения в своей способности говорить от имени кого-то, – это то, что дает право перейти в высказываниях от изъявительного к повелительному наклонению» – утверждает П. Бурдье. – Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм // Социология политики. М., 1993. С. 247.].
Для прояснения механизма конструирования правовой реальности эвристически ценной является позиция П. Бурдье, который вслед за Б. Паскалем утверждал: в основе любого социального института лежит первоначальный произвол[223 - «Основа закона есть не что иное, как произвол», – Бурдье П. За рационалистический историзм // Социологос постмодернизма. М., 1996. С. 15.], который с помощью механизма социальной амнезии по прошествии некоторого времени начинает выдаваться за «естественный ход вещей[224 - Harre R. Social Being. 2nd end. Oxford, 1993; Latour B. When things strike back: a possible contribution of “science studies” to the social science // British Journal of Sociology. 2000. Vol. 51. № 1. Об этом же, в принципе, пишет Я.И. Гилинский применительно к конструированию девиантности: «Общество «конструирует» свои элементы на основе некоторых онтологических, бытийных реалий. Так, реальностью является то, что некоторые виды человеческой жизнедеятельности причиняют определенный вред, наносят ущерб, а потому негативно воспринимаются и оцениваются другими людьми, обществом». – Гилинский Я.И. Конструирование девиантности: проблематизация проблемы (вместо предисловия) // Конструирование девиантности / Монография. Составитель Я. И. Гилинский. СПб., 2011. С. 10–11.]» (по терминологии Р. Харре и Б. Латура). Близкую программу формулирует Э. Лаклау, который полагает, что в основе любого социального института лежит учреждающий его акт власти, который в условиях фундаментальной неразрешимости социального, состоит в предпочтении одного правила организации практик всем существующим альтернативам, («первичный произвол» – по отношению к действующей нормативной системе), и который с помощью механизма «забывания происхождения» (у П. Бурдье – «амнезии происхождения») седиментируется, то есть, превращается в социальный институт, якобы сложившийся сам собой[225 - Lacklau E. New Reflections on the Revolution of Our Time. London,1990. Р. 160.]. При этом принципиально важно определить кто, когда и почему совершает «первичный произвол» и как он затем «амнезируется» (объективируется, часто реифицируется и воспринимается как некая естественная, объективная данность).
Любое действие (экстернализация – по терминологии П. Бергера и Т. Лукмана) совершается, конечно, людьми. Однако нормативную (правомерную или противоправную, оцениваемую так через некоторое время с позиций господствующей социальной группы) инновацию в состоянии продуцировать не любой человек, а правящая элита и (иногда – или) референтная группа. Именно они формируют первичный образец поведения, который может стать нормой, а может и нет. Это зависит от множества внешних факторов, интериоризируемых в массовое общественно сознание. Другими словами, превращение первичной инновации в норму обеспечивает ее (инновации) легитимация – принятие широкими народными массами. В силу трудно поддающемуся расчету полезности (по терминологии неоинституциональной экономической тории) для представителей разных социальных групп населения правовой инновации, ее легитимация обусловливается авторитетом правящей элиты и референтной группы. В то же время нельзя сбрасывать со счета «сопротивление структуры».
Конструирование правовой реальности можно рассматривать как воспроизводства (как инновационное, так и традиционное) правовых социальных представлений. О том, как новый правовой институт формируется, речь шла выше. Сейчас же рассмотрим как новый правовой институт (или норма права) включается в контекст системы права и приобретает социальную валидность (действенность). Правовой институт, как и любой социальный институт, – это устойчиво повторяющиеся общественные отношения, воспроизводимые ментальными и фактическими практиками людей – носителей статусов субъектов права. Правовой институт включает соответствующий знак, его обозначающий в системе знаково-символического универсума соответствующей культуры, образ, складывающийся у людей при соотнесении знака и действий и опривыченные (хабитуализированные) действия, в которых институт как социальное представление реализуется[226 - «Институты, – пишет классик неоинституциональной экономики Д. Норт, – это “правила игры” в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимодействие между людьми. Следовательно, они задают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере или экономике. Институциональные изменения определяют то, как общества развиваются во времени, и таким образом являются ключом к пониманию исторических перемен». – Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 17. В другом месте он пишет: «Институты невозможно увидеть, почувствовать, пощупать и даже измерить. Институты – это конструкции, созданные человеческим сознанием». Там же. С. 137.]. Тем самым, правовой институт – это социальное представление, воспроизводимое практиками людей[227 - По большому счету, все, что в обществоведении понимается под социальными структурами, и есть социальные представления, реализуемые в массовых многократно повторяющихся практиках людей.].
В этой связи уместно ввести новое понятие в юридический лексикон – правовые социальные представления. Родоначальник теории социальных представлений С. Московичи определял последние как форму знания, являющуюся продуктом коллективного творчества, имеющую практическую направленность и позволяющую создавать общую для социальной группы реальность[228 - Psychologie Sociale. Ed. by S. Moskovici. Paris, 1984. P. 360. В другой работе он пишет: под социальным представлением мы подразумеваем набор понятий, убеждений и объяснений, возникающих в повседневной жизни по ходу межличностных коммуникаций. В нашем обществе они являются эквивалентом мифов и систем верований традиционных обществ; эквивалентом мифов и систем верований традиционных обществ; их даже можно назвать современной версией здравого смысла. – Moskovici S. On Social representations // Social cognition: Perspectives on everyday understanding / Ed. by P.J. Forgas. London, 1981. P. 181.]. Другими словами, социальные представления – это господствующее в социальной группе (иногда – в относительно гомогенном обществе) обыденное практическое мышление, направленное на осмысление и освоение окружающего мира. Соответственно правовые социальные представления – это господствующие в социуме или социальной группе образы, интерпретации юридически значимых ситуаций и образцы поведения в них. По большому счету, правовые социальные представления – это социальные представления о праве. В связи с возможной классификацией социальных представлений по степени их абстрактности, уместно говорить о правовых представлениях наиболее абстрактного уровня, включающие здравосмысловые мнения о принципах права и правовой системе в целом, и о конкретном правовом институте или норме права, представленной в качестве образца поведения в типичной правовой ситуации.
Структуру правовых социальных представлений образуют так называемое ядерное знание и периферическое[229 - Начиная с работ Ж.-К. Абрика, в структуре социальных представлений принято выделять иконическую матрицу и фигуративное ядро. – Potter J., Litton I. Some problems underlying the theory of social representations // British journal of social psychology. 1985. № 24. P. 81–90. В социальном представлении, согласно Абрику, существует центральное ядро, которое связано с коллективной памятью и историей группы, которое определяет гомогенность группы через консенсус, обеспечивает ее стабильность, выполняет функцию порождения значения социального представления и определяет его организацию. Периферическая система обеспечивает интеграцию индивидуального опыта и истории каждого члена группы, поддерживает гетерогенность группы, она подвижна, несет в себе противоречия, чувствительна к наличному контексту. Она выполняет функцию адаптации социального представления к конкретной реальности, допускает дифференциацию его содержания, предохраняет его центральное ядро. Abric J.-Cl. Central system, peripheral system: their functions and roles in the dynamics of social representations // Papers on social representations. 1993. Vol. 2. № 2. Р. 76.]. С другой стороны, в социальном представлении можно выделить информацию (сумму знаний об объекте), поле представления (содержание представления с качественной стороны) и установка (аттитюд или ориентация субъекта по отношению к объекту)[230 - Московичи С. От коллективных представлений – к социальным // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 2. С. 83–96.]. Правовое социальное представление можно структурировать и по субъекту на индивидуальное (персональное) групповой и собственно социальное. При этом групповые и социальные правовые представления – это не механическая сумма индивидуальных, а господствующие в данной группе или социуме идеи, ценности, выраженные в образах права. В этой связи возникает серьезная проблема: как, в какой форме существуют групповые и социальные представления и каково их содержание? Можно говорить о принципах права и типах правопонимания, образующих правовую идеологию (при традиционном подходе к структуре правосознания). К этому уровню можно отнести догму права. Но если правовое социальное представление – это обыденные идеи или здравосмысловые концепты права, то их «ядро» образуют скорее смутные мнения людей о законодательстве, оцениваемые с точки зрения справедливости, всегда соотносимые с их идиосинкразическими образами, потребностями и мотивами, но никак не идеи, например, сторонников юридического либертаризма о том, что справедливость – это принцип формального равенства, соотносимый с теоретической концепцией свободы. Ценности и предпочтения обывателя о безопасности и личных возможностях – вот господствующие сегодня правовые социальные представления[231 - Ко всему прочему необходимо проводить различие между представлением о должном и сущем в правовом социальном представлении. С точки зрения должного на первое место в отечественной правовой культуре выходят ценности патернализма, вытекающие из стратегии выживания, свойственной подавляющей части населения страны (судя по данным Левада-Центра). Когда же дело доходит до сущего – предпочтений желательного поведения в конкретной ситуации – на первое место выходит стремление к личному благополучию без всякой ориентации на Другого. Поэтому разобщенность и отсутствие доверия – главные препятствия модернизации экономики, политики и права в нашей стране. – См.: Российская идентичность в условиях трансформации: опыт социол. анализа / [отв. ред. М. К. Горшков, Н.Е. Тихонова]. М., 2005. С. 375; Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. М., 2004; Гудков Л. Д. Абортивная модернизация. М., 2011; Дубин Б.В. Россия нулевых: политическая культура – историческая память повседневная жизнь. М., 2011; Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы /Отв. ред. Рябов А. В., Курбангалеева Е. Ш. М., 2003. «Высокие» идеи превращаются в мировоззрение через их адаптацию (интерпретацию) массовой культурой. В результате формируются этнические, религиозные и иные социокультурные предубеждения, противопоставления себя Другому, которые и составляют основной массив обыденных социальных представлений.].
Правовое социальное представление обеспечивает интеграцию людей в правовой системе через процессы социализации и адаптации к изменяющимся социокультурным условиям. Адаптационная функция правового социального представления одновременно является условием его изменения или формирования нового представления. Это происходит в результате механизмов анкоринга (якорения) и объектификации по терминологии С. Московичи и его школы. «Якорение» – это закрепление социального представления в обыденном сознании группы, которое производится при фиксации на новой для группы информации. При этом выделяется некоторое свойство наблюдаемого объекта, которое позволило бы затем вписать его в имеющиеся когнитивные схемы. Объектификация продолжает процесс превращения нового, «незнакомого» в узнаваемое, вписывающееся в существующую картину мира. При этом производится «персонификация» (ассоциирование объекта со значимыми личностями), и образование «фигуративной схемы» (визуально репрезентируемой ментальной конструкции). В результате можно говорить о «натурализации» социального представления – приобретении полученным знанием статуса объективной реальности. С помощью изложенных процессов снимается напряжение между «обычным и странным разрешается в пользу первого и в ущерб второму». «Овладеть чуждым», по мнению С. Московичи, означает уложить новый элемент действительности в сетку уже имеющихся понятий путем называния и классификации: «Все нам кажется странным, ненормальным и даже тревожным до тех пор, пока остается нерасклассифицированным и неназванным»[232 - Psychologie Sociale. Ed. by S. Moskovici. Paris, 1984. P. 32.]. Таким образом, правовое социальное представление – это образ и образец юридически значимого поведения в типизированной ситуации, включая правовой статус человека, это поведение осуществляющего.
Формирование правового социального представления означает складывание и функционирование правового института. Это происходит тогда, когда социальное представление о юридически значимом поведении начинает массово воспроизводится опривыченными (хабитуализированными) практиками широких слоев населения. Формирование соответствующего навыка у субъекта (актора) снижает его когнитивную нагрузку – необходимость рассчитывать каждый свой шаг, экономит мышление и предполагает выполнение соответствующих привычных действий практически без осознанного контроля. Предсказуемость «юридической повседневности» свидетельствует о высоком уровне правовой инкультурации[233 - Термин инкультурация, введенный в научный оборот одним из наиболее известных американских антропологов сер. ХХ М. Герсковицем, означает включенность человека в культуру, овладение поведением, которое считается в данной культуре правильным. – Herskovits M.J. Acculturation: The study of culture contract. N.Y., 1938.] социализированного индивида, о совпадении его экспектаций с экспектациями контрагента – носителя соответствующего правого статуса в контексте нормы права. Обретение соответствующих юридически значимых навыков и умений свидетельствует о правовой социализации как возможности самостоятельно играть роли – реализовывать своими действиями правовые статусы[234 - Правовой статус – это не просто права и обязанности, закрепляемые законодателем за человеком, а фактическая возможность и желаемость их реализации. А это возможно только при наличии правовой идентичности индивида – соотнесении себя с соответствующим статусом.], т. е. о дееспособности индивида.
Правовые социальные представления формируются в процессе конкурентной борьбы социальных групп за право официальной номинации социальных явлений (по терминологии П. Бурдье) и, соответственно, юридической квалификации. За видимостью «естественного хода истории» скрывается борьба социальных сил, их гегемонистские стратегии. Так, по мнению М. Олсона, формирование государства – это преодоление анархии кочующих бандитов, возникающее, подобно рыночному порядку, из эгоистических стремлений тех же бандитов к максимизации взимаемой с общества дани. Необходимые условия этой максимизации образуют принципиально новый порядок, власть оседлого бандита, становящегося автократом (автократическим правительством). Он пишет, что правительства для групп больших, чем племена, обычно возникают не из общественных договоров или добровольных сделок любого вида, а скорее по причине рационального корыстного интереса у тех, кто способен мобилизовать наибольший потенциал насилия. Силовые предприниматели, естественно, не называют себя бандитами, но, напротив, дают себе и своим наследникам возвеличивающие их титулы. Иногда они даже заявляют, что правят по божественному праву. Поскольку история пишется победителями, происхождение правящих династий, конечно, обычно объясняется в терминах высоких мотивов, а не корыстными интересами. Автократы всех разновидностей заявляют, что их подданные желают, чтобы они ими правили, и тем самым подпитывают чуждое истории предположение о том, что государственная власть возникает из какой-либо разновидности добровольного выбора[235 - Olson M. Dictatorship, Democracy and Development // American Political Science Review. 1993. Vol. 87 (3). P. 568.].
По мнению Г. Брейквелл, на конструирование социального представления принципиальное влияние оказывают следующие факторы: во-первых, расстановка сил в межгрупповой борьбе, включающая воздействия СМИ и политтехнологий на население; во-вторых, связь с социальной идентичностью членов соответствующей группы, которой не может противоречить формирующееся социальное представление (в противном случае неизбежен когнитивный диссонанс); в-третьих, включение нового социального представления в весь комплекс социальных представлений, образующих менталитет социума[236 - Breakwell G. M. Social representations and social identity // Papers on social representations. 1993. Vol. 2 (3). P. 196–197.].
Несмотря на то, что правовые социальные представления навязываются обществу (выступающему, в свою очередь, как и любое коллективное образование, социальным представлением, связывающим конкретных людей в некое единое целое) элитой и референтной группой, они не могут не обладать определенной степенью легитимности[237 - О легитимности права речь впереди.], а потому – диалогичностью.
Близкие конструктивизму идеи излагаются в так называемом «инструментальном» подходе в правоведении, прежде всего, в науке частного права (если таковая, конечно, существует)[238 - См.: Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 2013; она же. Инструментальный подход в частном праве: основные положения и критическая оценка опыта применения // Известия вузов. Правоведение. – 2011. № 6. Одним из основоположников данного подхода является крупнейший отечественный цивилист Б.И. Пугинский. См.: Пугинский Б.И. Инструментальная теория правового регулирования // Вестник МГУ. Сер. И. Право. 2011. № 3.].
«Инструментализм в юриспруденции, – пишет С.Ю. Филиппова, – предполагает отказ от многовековых бесплодных дискуссий о сущности отдельных юридических понятий и постановку конкретных задач – как именно может использоваться то или иное правовое решение, для достижения каких именно конкретных целей и, наоборот, подыскание наиболее эффективных средств достижения целей лица. … Важнейшая черта инструментализма, проявляющаяся в том числе в инструментализме как подходе в юриспруденции, заключается в непременном постоянном анализе деятельности субъекта по достижению цели»[239 - Филиппова С. Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 2013. С. 28. Такой подход обосновывается тем, что в классической юриспруденции «человек, его потребности, цели, воля продолжают оставаться за рамками исследований, а право (по крайней мере в отраслевых научных работах) предстает как некая константа, объективная данность». – Там же.]. О праксиологизме инструментальной теории права пишут В.А. Сапун и К.В. Шундиков[240 - Сапун В. А., Шундиков К. В. Инструментальная теория права и человеческая деятельность // Известия вузов. Правоведение. 2013. № 1.].
Инструментальный подход в интерпретации С.Ю. Филипповой базируется на следующих «постулатах»:
«1. Человек – основа права и всех правовых явлений. Право существует только пока существует человек, оно создается человеком и для человека. Правовые предписания могут оказывать свое воздействие только на человека через его волю. Для нас этот постулат основной. Если право существует само по себе, вне человека, действуя в том числе на природу, то вся конструкция оценки пригодности правовых явлений для человека не может работать.
2. Сознание есть у человека и только у него. Никаких иных мыслящих субстанций, кроме сознания человека, нет. Нам не близка идея о том, что право само по себе – некая мыслящая субстанция, обладающая самостоятельной силой (хотя эта мысль сегодня широко распространена в юридической науке). Критически оцениваются нами также идеи о наличии сознания у юридического лица, государства и пр. Мы понимаем, что это – исключительно вопрос веры, поэтому помещаем данное утверждение в разряд постулатов инструментализма – недоказуемых, принимаемых на веру допущений.
3. Человек в состоянии понимать значение своих действий, предвидеть их последствия (без этого допущения невозможно сконструировать понятие цели как предвиденного мысленного результата деятельности)»[241 - Там же. С. 33–34.].
Инструментальный подход, таким образом, «подразумевает исследование правовых явлений с позиции их целесообразности, функциональной пригодности для использования в процессе правовой деятельности людей для достижения ими собственных правовых целей. Единственным мерилом необходимости существования того или иного правового явления выступает его полезность для человек»[242 - Там же. С. 31–32.].
Ядром инструментального подхода объявляются три категории: правовая цель, правовое средство и правовая деятельность. При этом последняя «не представляет собой какую-то особую деятельность, отличную от иных видов человеческой активности», а представляет собой «человеческую деятельность вообще, взятую в одном из множества ее ракурсов». Поэтому «никакой правовой деятельности как отдельного, самостоятельного вида человеческой активности, изолированного от прочих видов его коммуникаций с окружающей действительностью, не может существовать и мыслиться. Причиной тому является то простое обстоятельство, что потребности человека, удовлетворяемые посредством реализации права, лежат в его природе (как биологического и социального существа), и результат применения правового инструментария тоже должен быть им воспринят, уменьшив тем самым неудовлетворенность, в силу которой деятельность и осуществлялась»[243 - Там же. С. 183–185.].
Признавая справедливость изложенных положений, конкретизируемых на примере материала из частного права, тем не менее, нельзя не заметить, что предложенный подход остается в русле утилитаризма и прагматизма конца Х1Х – нач. ХХ вв. или «неклассической» юриспруденции, из которой в конце ХХ в. складывается постклассическая парадигма. Выскажу некоторые соображения по поводу этой весьма перспективной концепции, которые, возможно, поспособствуют ее совершенствованию.
Во-первых, заявленный инструментально-социологический подход стоило бы направить в сторону социологизации нормы права, институтов права и правоотношений, тем более, что в литературе имеются интересные предложения на этот счет[244 - В.А. Четвернин утверждает, что при «социологическом “подходе”, при котором “право” и “правопорядок” отождествляются, право понимается как система социальных норм или институтов (право в целом характеризуется как один из основных социальных институтов), содержание которых может отличаться от официальных, законодательных моделей. Например, каких-то официально предписанных правил в реальности может и не быть и, наоборот, реальные нормы могут и не иметь официального выражения». «Правовые нормы, как и любые социальные нормы (т. е. правила, которым подчиняются социальные взаимодействия) проявляются, во-первых, в самой социальной деятельности, внешне выраженном поведении, во-вторых, в знаковой форме, в авторитетных текстах». «Социальный институт … – устойчивый порядок социальных коммуникаций или социальной деятельности, интеракций, воплощающий в себе те или иные социальные нормы (и соответствующий принцип) и выполняющий определенную функцию». «В формалистической интерпретации правовой институт – это официально принятая модель (образец) социальной деятельности, которая (модель) воспринимается как таковая, т. е. в отрыве от социальной реальности. Напротив, в институционализме – это формализованные и неформализованные правила, которым реально подчиняется социальная деятельность, а модели, которым не соответствует социальная практика, институтами не признаются». – Четвернин В.А., Яковлев А.В… Институциональная теория и юридический либертаризм // Ежегодник либертарно-юридической теории. Вып. 2. 2009. С. 215–225. В начале ХХ в. об этом же, в принципе, писали Е. Эрлих, «правовые реалисты» США, а в сер. ХХ в. – представители скандинавского правового реализма. «Правовая норма … является перешедшим в действие правовым предписанием в таком виде, в котором оно существует в даже довольно незначительном общественном союзе и может существовать без какой-либо фиксации в вербальной форме». – Эрлих О. Основоположение социологии права. СПб., 2011. С. 95.]. В противном случае получается, что юридическая деятельность, которая подробно и обстоятельно излагается в цитируемой монографии, протекает вне правоотношений и простых форм реализации права.
Во-вторых, «социологический иструментализм» С.Ю. Филипповой не учитывает и не включает в предмет научного анализа результатюридической деятельности. Критикуя «интеграционный» подход В.А. Сапуна к понятию «правовые средства», автор заявляет, что подмена правовой цели результатом недопустима, так как результат – объективная реальность. «Он совсем не обязательно совпадает с целью, являющейся лишь мысленной моделью будущего, т. е. с заданным, планируемым результатом: даже самый минимальный жизненный опыт свидетельствует о том, что фактически достигнутый результат нередко существенно отличается от заданного (цели). Закладывая в понятие правового средства результат, а не цель, ученый делает правовое средство заведомо неопределенным и неопределимым. В отличие от правовой цели, существующей в сознании субъекта на момент применения правового средства, результат появляется лишь после такого применения, заранее он известен лишь с большей или меньшей степенью точности (погрешности), а потому брать его в основу определения понятия правового средства не вполне корректно»[245 - Филиппова С. Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 2013. С. 113.]. Однако как в таком случае измерить эффективность права, правового регулирования? Как установить степень достижения цели? Отказ от изучения результата как раз и приводит к догматизации излагаемого автором социологического подхода. Соглашаясь с тем, что измерить результат воздействия права на общество чрезвычайно сложно, невозможно принять изложенную точку зрения. Ко всему прочему, С. Ю. Филиппова сама заявляет, что правовые цели могут быть недостижимы, они могут противоречить друг другу (цель, сформулированная в законе и преследуемая субъектом правореализации)[246 - Там же. С. 56.]. При этом утверждается: «под правовой целью субъектов правореализационной деятельности мы будем понимать тот правовой результат, на который рассчитывают субъекты права при совершении ими юридически значимых действий»[247 - Там же. В другом месте читаем: «…правовой целью является я любой мыслимый правовой результат, к которому лицо стремится и который, по его мнению, должен привести к удовлетворению его потребности». Там же. С. 58. Если основное отличие цели от результата состоит в «осознанности», «предвосхищаемости» и «желаемости» результата, то замечу, что «объективная социальная реальность» не существует вне и без социальных и индивидуальных представлений или «субъективной», ментальной стороны. В любом случае изучение правовой деятельности невозможно вне и без анализа результата, к которому она приводит.]. Получается, что результат как «объективная реальность» все же необходимо изучать. По большому счету – это азбука теории управления: именно анализ результата обеспечивает обратную связь для корректировки цели, задач, средств и других элементов управленческого процесса.
Некоторые сомнения вызывает утверждение С.Ю. Филипповой, что правовые средства и цели являются автономными и не могут совпадать с другими социальными средствами и целями. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, прочитав следующий пассаж: «…использовать правовые средства можно исключительно для достижения правовых целей; к решению иных (безусловно, чрезвычайно важных, но все-таки иных, не правовых, не юридических) проблем и достижению иных целей они имеют лишь опосредованное отношение»[248 - Там же. С. 113–114.]. Это не вяжется с замечательной характеристикой правовой деятельности как «момента общечеловеческой деятельности». Если цель и средства включаются автором в систему юридической деятельности[249 - Там же. С. 188.], то следует сделать вывод, что правовые средства и цели – также «моменты» или «стороны» (по Гегелю) общечеловеческих средств и целей, не существующих как некие самостоятельные сущности. Не существует «чистых» правовых явлений, средств, целей и т. д. Любое правоотношение, понимаемое как взаимодействие людей – носителей статусов субъектов права – всегда включает несколько социальных «пластов» или «аспектов»: психический, культурный, часто экономический (это характерно для всех частноправовых правоотношений), политический (для конституционно-правовых) и т. д. «Любой акт правового поведения, – утверждал Н.С. Тимашев, – выступает одновременно биологическим, политическим, экономическим, религиозным или культурным актом…»[250 - Тимашев Н. С. Рецензия // Эрлих О. Основоположение социологии права. СПб., 2011. С. 670.]. Поэтому какая-либо «юридическая» цель всегда одновременно выступает другой социальной целью: обеспечением общественного порядка для уголовного права и процесса, ростом экономики для гражданского права, оптимизацией демографии для права социального обеспечения, нормализации экологической ситуации для экологического права и т. д. Это же, в принципе, касается и правовых средств, у которых присутствует автономная форма, но которые функционируют всегда вместе с другими социальными средствами и «порождают изменения в общественной жизни»[251 - Там же. С. 111.]. Поэтому право в целом, правовые цели и средства могут быть выделены как автономные только аналитически и служат удовлетворению потребностей человека, на чем вполне аргументировано настаивает С.Ю. Филиппова[252 - Там же. С. 114. Ср.: «…признанные правом интересы общества находят отражение в правовых нормах…». Там же. С. 110. Т. е. право закрепляет социальные интересы, которые тем самым превращаются в «правовые».].
Изложенные замечания не так уж и принципиальны. Более важным представляется то, что прагматизм конца ХIХ – нач. ХХ вв. значительно трансформировался в аналитической философии, постструктурализме и посклассической психологии конца ХХ – нач. ХХ вв[253 - См.: Петренко В.Ф. Психосемантика как направление конструктивизма в когнитивной психологии // Петренко В.Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. М., 2010. С. 158–200; Скребцова Т. Г. Когнитивная лингвистика: Курс лекций. СПб., 2011. С. 22–30. О трансформации и расширении «сферы прагматики» см.: Заботкина В.И. Слово и смысл. М., 2012. С. 13–17.]. Юридические практики в подавляющем большинстве случаев не предполагают калькулируемость действий с точки зрения осознания потребностей, перевод их в интересы, формулирование цели, ее конкретизацию в задачах – алгоритмах достижения цели, определение средств достижения задач и цели, планирование действий, их претворение в жизнь, анализ достигнутого результата, корректировку цели и т. д. Редкий юрист рефлексирует в магазине по поводу договора купли-продажи или в общественном транспорте по поводу договора перевозки, если он (договор) заключается и реализуется без проблем. Даже большинство убийств (кроме заказных) совершается ситуативно, без осмысления своих действий и их последствий. Перенесение рационально мыслящего «человека экономического» в ходе экспансии экономики на другие сферы жизнедеятельности общества, в том числе, в сферу права – не более чем умозрительная конструкция, не выдерживающая критики[254 - См. подробнее: Честнов И. Л. Экономический анализ права: теоретико-методологические основания и перспективы научного направления // Честнов И.Л. Постклассическая теория права. Монография. СПб., 2012. С. 574–601.]. Анализ правовых средств и цели уместен только для тех случаев, когда люди, в том числе, правоприменители, сталкиваются со сложными ситуациями, делами. Большинство населения, как известно, достаточно поверхностно осведомлены о позитивном праве. Но при этом в любом обществе сохраняется правопорядок. На чем же он основан? На механизме социализации – приобщения человека к господствующим социальным представлениям, на выработке в процессе личного опыта категоризации и типизации социального мира. Даже мышление опытного юриста в простых делах основано на стереотипизации, что вытекает из психологии прототипов[255 - См. подробнее: Скребцова Т. Г. Указ. Соч. С. 84 – 107.].
Думается, что развитие инструментального социологического подхода должно учитывать эти и другие достижения «смежных» наук.
Подводя промежуточный итог обсуждаемого вопроса, можно заключить, что все правовые феномены, как и понятия о них – суть социальные конструкты[256 - Справедливость как фундаментальный принцип права (по мнению сторонников юридического либертаризма) не есть некая онтическая данность, она порождается процедурными средствами, конструируется; «справедливое неизвестно заранее» – так интерпретирует Д. Ролза П. Рикер. – Рикер П. Справедливое. С. 70.].
Социокультурный контекстуализм
Право – социокультурный феномен. Его социокультурная обусловленность права выражается, прежде всего, в социальном назначении. Право существует не ради себя (поэтому система права не может быть самодостаточной, самореферентной системой). Право сконструировано ради обеспечения нормального функционирования социума, в чем проявляется его функциональная значимость[257 - Странно, что это, казалось бы, очевидное положение вызывает неприятие у многих теоретиков права.]. При этом критерий «нормальности» определяется исходя из господствующих ценностей, которыми оценивается социальная реальность, что дает основание для правовой политики (правовой номинации или означивания социальных ситуаций как правовых).
Признавая справедливость высказанных положений, приходится констатировать, что на сегодняшний день социальное назначение права практически не исследовано[258 - Известнейший отечественный теоретик уголовного права А.Э. Жалинский справедливо пишет: «Не вполне понятно, как уголовное право служит обществу. Отсутствует должная ясность относительно природы, тенденций и соответственно места уголовного права в быстро меняющемся современном обществе. … В российском обществе, в значительной части по вине профессиональных юристов, нет четкого представления как о позитивных и негативных следствиях функционирования действующего уголовного права, так и о способах использования его возможностей». И продолжает: «В уголовно-правовой науке, и не только российской, не решен ее основной вопрос: какова действительно роль уголовного закона. И в особенности каково действительное воздействие уголовного права на поведение людей». Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 5, 7–8, 106.]. Функциональная значимость права проявляется в его легитимности, выступающей сущностным критерием права по А.В. Полякову. Интересно, что все значимые теоретики права ХХ в. – Г. Кельзен, Г. Харт, Р. Алекси и др. признают социальную валидность права (т. е. легитимность) как необходимый аспект его бытия.
В этой связи серьезнейшей проблемой юридической науки является диалектика универсального и контекстуального. Существует ли универсальное право и представление о его общих – для всех времен и народов – признаках? Другими словами, есть ли нечто общее, что свойственно явлениями и процессам, именуемым юридической теорией (точнее – теориями или различными концепциями права) термином право, с учетом его исторической изменчивости, культурной обусловленности и многогранности?
Мировоззрение, господствующее со второй половины ХХ в. и до наших дней, казалось бы, не оставляет возможности положительного ответа на вопрос о возможности универсального права и неотделимого от него знания о нем, так как сегодня с легкой руки культурной антропологии, аналитической философии[259 - Речь идет, по крайней мере, о релятивистском направлении в аналитической философии, представленном идеями позднего Л. Витгенштейна (языковых игр, прежде всего), концепцией возможных миров Н. Гудмэна, теорией онтологической относительности У. Куайна и др. но является односторонним, и ведет к радикальному упрощению права. (Schlag P. Normativity… P. 1115). Из одной-единственной перспективе вытекает вера в то, что существует единственно верная онтология права, которая не зависит от всех субъектов права (за исключением судей) (Ibid. P. 1116–1117). Я. И. Гилинский – один из немногих в российской юридической науке, кто использует принцип дополнительности в качестве методологии криминологических исследований. По его мнению, вытекая из принципа относительности знаний (релятивизма) и необычайной сложности даже самых «простых» объектов, принцип дополнительности в изложении Н. Бора состоит в том, что «соntгагiа sunt complementa» (противоположности дополняют друг друга): лишь противоречивые, взаимоисключающие концепции в совокупности могут достаточно полно описать изучаемый объект; иными словами, необходимо не «преодоление противоречивых суждений об объекте, а их взаимодополкительность). – Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. 2-е изд, перераб. и доп. СПб., 2009. С. 25–26.], гипотезы лингвистической относительности, постструктуралистов, постмодернистов и т. д. доминирует идея релятивизма.
Принципиально важную роль в становлении концепции релятивизма сыграл принцип дополнительности Н. Бора, имеющий общеметодологическое значение. Он означает контекстуализм научного знания – его зависимость от позиции наблюдателя, отсутствие привилегированной точки зрения («Божественного наблюдателя» – Х. Патнем), а тем самым, несоизмеримость научных парадигм. Поэтому, например, научные факты всегда являются «теоретически нагруженными»: они зависят от того, как их оценивают с позиций соответствующей теории и сами по себе (без теории) ничего не доказывают[260 - В юриспруденции принцип дополнительности пока не получил долженствующего ему применения. Косвенно он используется одним из лидеров критических исследований в юриспруденции США, профессором школы права университета Колорадо П. Шлагом (См.: Schlag P. The Problem of the Subject // Tex. L. Rev., № 69, 1991; Schlag P. Normativity and the Politics of Form // U. Pa. L. Rev., № 139, 1991). В частности, американский юрист поднимает проблему субъекта права и «взгляда изнутри» на право (с точки зрения судьи). Такой взгляд, по его мнению, неизбеж-]. В связи с принципом релятивизма нельзя не вспомнить ограничительные теоремы К. Геделя, опровергающие возможность существования формализованных непротиворечивых и одновременно полных (завершенных) систем. В частности. Первая теорема Геделя гласит: если система (множество) непротиворечива, то она неполна (незавершенная); если же она полна (завершенная), то она противоречива.
Лингвистический «поворот» в социогуманитарном знании сформулировал зависимость социальной реальности от представлений о ней: ситуация реальна настолько, насколько она воспринимается как реальная – гласит знаменитая «теорема У. Томаса». Это же утверждают и сторонники социальной феноменологии. Поэтому релятивизм в научном познании одновременно оказывается онтологическим релятивизмом социального бытия: социальный мир не существует вне знакового (языкового) его опосредования.
Таким образом, релятивизм преодолевает наивно-реалистическое представление о познании и мире: познание не является отражением природы («зеркалом природы» по Р. Рорти), т. к. мы никогда не сможет сравнить представление о реальности с самой реальностью (Т. Рокмор), ибо последняя дана нам только как представление.
В другой работе А.С. Александров заявляет: «Посредством риторики законодатель убеждает в «правости» закона общество. /…/ Право делает правом речь, судебный дискурс. Если это эффективный, убеждающий дискурс, т. е. он воздействует на публику (аудиторию), значит в тексте закона инсталлируется реальное право. Когда обыватели верят в судебную истину (справедливость приговора), тогда право выполняет свою функцию нормирования, упорядочивания в обществе. Риторическая рукоять (дискурс суда) приводит в действие механизм права = текста»[216 - Александров А.С. Текст закона и право // Классическая и постклассическая методология развития юридической науки на современном этапе. Сборник научных трудов. Минск, 2012. С. 123, 125].
Гораздо более «умеренную» версию юридического дискурса развивает в своих работах Р. Алекси. Он исходит из того, что так же, как «правила не могут применяться сами собой, так и система не может сама придать себе законченность и когерентность. Для этого необходимы люди и определенные процедуры. И необходимой процедурой в данном случае является юридическая аргументация»[217 - Алекси Р. Юридическая аргументация как рациональный дискурс // Российский ежегодник теории права. Вып. 1. 2008. СПб., 2009. С. 451.]. Отсюда вытекает необходимость нормативной теории, «которая позволит хоть немного определить силу или весомость различных аргументов и рациональность юридического обоснования. Такой теорией, судя по всему, является теория рационального юридического дискурса, возникающая благодаря включению теории общего практического дискурса в теорию правовой системы. Данное включение – не просто применение общей теории дискурса к праву, а развитие теории, необходимое на основании этой системы»[218 - Там же.].
«Практический дискурс рационален, – пишет немецкий теоретик права – если в нем выполняются условия рационального практического аргументирования. Если эти условия выполняются, то результат дискурса верен. Следовательно, теория дискурса – это процессуальная теория практической правильности.
Условия рациональности процедуры дискурса можно свести в систему правил дискурса. Практический разум можно определить, как способность принимать практические решения на основании системы этих правил.
Правила дискурса можно классифицировать многочисленными способами. Здесь целесообразно разделить их на две группы: на правила, которые касаются непосредственно структуры аргументов, и правила, которые являются непосредственным предметом процедуры дискурса.
К правилам первой группы (к правилам, которые касаются непосредственно структуры аргументов) причисляют, например, требование отсутствия противоречий, универсализации с точки зрения согласованного использования применяемых способов оценки, требование терминологически-языковой ясности, истинности применяемых эмпирических предпосылок, дедуктивной полноты аргументов, принятия во внимание последствий, взвешенности решений, принятия ролевого обмена и анализа возникновения моральных убеждений.
Все эти правила применимы также монологически, и многое говорит в пользу того, что ни одна теория рационального практического аргументирования или обоснования не может от них отказаться.
Очевидно, что теория дискурса ни в коем случае не заменяет обоснование и аргументацию простым достижением согласия, в чем ее нередко упрекают. Более того, она полностью включает в себя правила рационального аргументирования, ориентированные непосредственно на аргументы. Ее особенность заключается исключительно в том, что она добавляет к этому уровню еще один, а именно правила, ориентированные на процедуру дискурса.
Эта вторая группа правил не носит монологический характер. Ее основной задачей является обеспечение беспристрастности практической аргументации. Служащие этой цели правила можно назвать «специфическими правилами дискурса». Главные из них гласят: 1. Каждый, кто может говорить, может принимать участие в дискурсе. 2. (а) Каждый может поставить под сомнение любое утверждение. (b) Каждый может ввести любое утверждение в дискурс. (с) Каждый может выражать свои взгляды, желания и потребности (2.2). 3. Ни одному из ораторов нельзя препятствовать реализовывать его права, закрепленные в пунктах (1) и (2), никаким давлением, в рамках или за пределами дискурса.
Эти правила гарантируют права каждого из тех, кто принимает участие в дискурсе, а также свободу и равенство в рамках дискурса. Они служат выражением универсального характера теории дискурса»[219 - Там же. С. 454–453.].
Приведенные положения являются приложением к правоведению идей дискурсивной рациональности, основанной на «идеальной речевой ситуации», как практики «идеального коммуникативного сообщества», развиваемой К.-О. Апелем и Ю. Хабермасом. При всем авторитете данной программы и ее обоснованности, нельзя не заметить, что в ней не принимается во внимание контекст коммуникативной ситуации, роль власти и идеологии в манипуляции реальным (а не идеальным) коммуникативным сообществом при выработке, столкновении и борьбе аргументов. Поэтому «делиберативная (она же дискурсивная) теория права» ориентированная на консенсус, сегодня поставлена под сомнение критическим дискурс-анализом, акцентирующим внимание на различия, конститутивные для всех социальных идентичностей (в том числе, и правовых статусов). Не случайно Р. Алекси оговаривается: «Центральная проблема теории дискурса состоит в том, что ее система правил не предоставляет никакого метода, который позволил бы конечным числом операций достигать всегда точно определенного результата»[220 - Там же. С. 453.].
Право с точки зрения критического дискурс-анализа не есть некая объективная данность, а представляет собой результат активной деятельности господствующей социальной группы по формированию образцов юридически значимого поведения и убеждению населения в необходимости его воспроизведения. Правовой институт, включая конституцию как текст основного закона, конструируется первичным единичным действием (например, представителя референтной группы или правящей элиты по объявлению какого-либо действия правомерным, либо противоправным). В силу авторитета субъекта – носителя символического капитала, именующего некоторые действия в качестве правомерных, либо противоправных, других обстоятельств (например, функциональной значимости определенного действия, подлежащего нормативной охране – закрепления посягательства на него как противоправного, заимствования иностранного опыта и т. п.) происходит легитимация сконструированного социального мира (социального института, правила поведения), то есть признание его широкими слоями населения и седиментация («осаждение» – букв. – «выпадение в осадок» – в образцы традиционного поведения). Все это приводит к тому, что сконструированный мир реифицируется и начинает восприниматься как объективная данность, природа вещей, естественная сущность.
При этом следует иметь в виду, что социально значимый субъект, тот, кто сумел победить в борьбе за «право номинации социального мира» (по терминологии П. Бурдье) формулирует правило поведения (в том числе, юридически значимое) отнюдь не произвольно, то есть конструирование социального (и правового) мира не является абсолютно произвольным, ничем не обусловленным креативным актом. Он (его волюнтаризм) ограничен как ресурсом наличных средств, так и здравым смыслом, так и оценкой легитимирующего потенциала. «Кажущаяся бесконечность возможностей творческого потенциала в дискурсивной практике, – справедливо отмечает Н. Фэркло, – …на практике оказывается весьма ограниченной и скованной из-за существующих отношений гегемонии и борьбы за гегемонию»[221 - Fairclough N. Critical discours analysis and the marketization of public discourse: the universities // Discourse and Society. 1993. Vol. 4 (2). Р.137.]. Эта «борьба за гегемонию» вводит такие ограничения на инновацию, как историческое прошлое, господствующая культура, состояние сфер общества, международное окружение. Эти внешние факторы интериоризируются правовой культурой в правосознание социума и подвергаются селективному отбору со стороны правящей элиты и референтной группы, после чего новый образец социально значимого поведения легитимируется и означивается (приобретает значение) как правовое поведение. Этому в немалой степени, конечно, способствует придание образцу поведения юридически-знаковой формы, то есть облечение в соответствующую форму права. Однако реальность права возникает не в момент его официального провозглашения, а только после того, когда новое правило поведения трансформируется в правопорядок.
В конечном счете, окончательный выбор правила поведения как правомерного или противоправного зависит от широких народных масс, которые либо принимают его и включают в контекст правовой культуры общества, или отвергают с помощью дискурсивных практик, вне которых принципы права, а также любые знаковые его фиксации остаются «мертворожденными». Здесь принципиально важное значение имеет социокультурный и исторический контекст, который, по большому счету, и является трансцендентным критерием правовой селекции – важнейшим элементом конструирования правовой реальности.
Конструктивизм
Постклассическая парадигма в социогуманитарном знании и в юриспруденции, в частности, акцентирует внимание на сконструированности, а не данности социального мира (и, следовательно, права). Социальный конструктивизм, отрицая данность социального мира, утверждает его многообразие, возможность изменения к лучшему и, следовательно, личную ответственность за его современное состояние. Выступая в оппозиции к «наивному социальному реализму» он запрещает выдавать частные, индивидуальные интересы и стремления за общественные и, тем самым, говорить от имени социального целого[222 - К. Шмит по этому поводу заметил, что тот, кто говорит «человечество», тот хочет обмануть, т. е. все выдаваемые за универсальные ценности (права человека, демократия и т. п.) суть средства господства – Schmitt С. Glossarium (1947–1951). Berlin, 1991. S. 76; Он же. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 1. С. 54. И. Уоллерстайн заявил еще резче: универсализм – это средство капиталистической эксплуатации третьего мира. – Wallerstein I. Culture as the ideological battleground of the modern world-system // Theory, culture and society. London, 1990. Vol. 7. № 1/3. P. 46. «Узурпация, заключающаяся в факте самоутверждения в своей способности говорить от имени кого-то, – это то, что дает право перейти в высказываниях от изъявительного к повелительному наклонению» – утверждает П. Бурдье. – Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм // Социология политики. М., 1993. С. 247.].
Для прояснения механизма конструирования правовой реальности эвристически ценной является позиция П. Бурдье, который вслед за Б. Паскалем утверждал: в основе любого социального института лежит первоначальный произвол[223 - «Основа закона есть не что иное, как произвол», – Бурдье П. За рационалистический историзм // Социологос постмодернизма. М., 1996. С. 15.], который с помощью механизма социальной амнезии по прошествии некоторого времени начинает выдаваться за «естественный ход вещей[224 - Harre R. Social Being. 2nd end. Oxford, 1993; Latour B. When things strike back: a possible contribution of “science studies” to the social science // British Journal of Sociology. 2000. Vol. 51. № 1. Об этом же, в принципе, пишет Я.И. Гилинский применительно к конструированию девиантности: «Общество «конструирует» свои элементы на основе некоторых онтологических, бытийных реалий. Так, реальностью является то, что некоторые виды человеческой жизнедеятельности причиняют определенный вред, наносят ущерб, а потому негативно воспринимаются и оцениваются другими людьми, обществом». – Гилинский Я.И. Конструирование девиантности: проблематизация проблемы (вместо предисловия) // Конструирование девиантности / Монография. Составитель Я. И. Гилинский. СПб., 2011. С. 10–11.]» (по терминологии Р. Харре и Б. Латура). Близкую программу формулирует Э. Лаклау, который полагает, что в основе любого социального института лежит учреждающий его акт власти, который в условиях фундаментальной неразрешимости социального, состоит в предпочтении одного правила организации практик всем существующим альтернативам, («первичный произвол» – по отношению к действующей нормативной системе), и который с помощью механизма «забывания происхождения» (у П. Бурдье – «амнезии происхождения») седиментируется, то есть, превращается в социальный институт, якобы сложившийся сам собой[225 - Lacklau E. New Reflections on the Revolution of Our Time. London,1990. Р. 160.]. При этом принципиально важно определить кто, когда и почему совершает «первичный произвол» и как он затем «амнезируется» (объективируется, часто реифицируется и воспринимается как некая естественная, объективная данность).
Любое действие (экстернализация – по терминологии П. Бергера и Т. Лукмана) совершается, конечно, людьми. Однако нормативную (правомерную или противоправную, оцениваемую так через некоторое время с позиций господствующей социальной группы) инновацию в состоянии продуцировать не любой человек, а правящая элита и (иногда – или) референтная группа. Именно они формируют первичный образец поведения, который может стать нормой, а может и нет. Это зависит от множества внешних факторов, интериоризируемых в массовое общественно сознание. Другими словами, превращение первичной инновации в норму обеспечивает ее (инновации) легитимация – принятие широкими народными массами. В силу трудно поддающемуся расчету полезности (по терминологии неоинституциональной экономической тории) для представителей разных социальных групп населения правовой инновации, ее легитимация обусловливается авторитетом правящей элиты и референтной группы. В то же время нельзя сбрасывать со счета «сопротивление структуры».
Конструирование правовой реальности можно рассматривать как воспроизводства (как инновационное, так и традиционное) правовых социальных представлений. О том, как новый правовой институт формируется, речь шла выше. Сейчас же рассмотрим как новый правовой институт (или норма права) включается в контекст системы права и приобретает социальную валидность (действенность). Правовой институт, как и любой социальный институт, – это устойчиво повторяющиеся общественные отношения, воспроизводимые ментальными и фактическими практиками людей – носителей статусов субъектов права. Правовой институт включает соответствующий знак, его обозначающий в системе знаково-символического универсума соответствующей культуры, образ, складывающийся у людей при соотнесении знака и действий и опривыченные (хабитуализированные) действия, в которых институт как социальное представление реализуется[226 - «Институты, – пишет классик неоинституциональной экономики Д. Норт, – это “правила игры” в обществе, или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимодействие между людьми. Следовательно, они задают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере или экономике. Институциональные изменения определяют то, как общества развиваются во времени, и таким образом являются ключом к пониманию исторических перемен». – Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 17. В другом месте он пишет: «Институты невозможно увидеть, почувствовать, пощупать и даже измерить. Институты – это конструкции, созданные человеческим сознанием». Там же. С. 137.]. Тем самым, правовой институт – это социальное представление, воспроизводимое практиками людей[227 - По большому счету, все, что в обществоведении понимается под социальными структурами, и есть социальные представления, реализуемые в массовых многократно повторяющихся практиках людей.].
В этой связи уместно ввести новое понятие в юридический лексикон – правовые социальные представления. Родоначальник теории социальных представлений С. Московичи определял последние как форму знания, являющуюся продуктом коллективного творчества, имеющую практическую направленность и позволяющую создавать общую для социальной группы реальность[228 - Psychologie Sociale. Ed. by S. Moskovici. Paris, 1984. P. 360. В другой работе он пишет: под социальным представлением мы подразумеваем набор понятий, убеждений и объяснений, возникающих в повседневной жизни по ходу межличностных коммуникаций. В нашем обществе они являются эквивалентом мифов и систем верований традиционных обществ; эквивалентом мифов и систем верований традиционных обществ; их даже можно назвать современной версией здравого смысла. – Moskovici S. On Social representations // Social cognition: Perspectives on everyday understanding / Ed. by P.J. Forgas. London, 1981. P. 181.]. Другими словами, социальные представления – это господствующее в социальной группе (иногда – в относительно гомогенном обществе) обыденное практическое мышление, направленное на осмысление и освоение окружающего мира. Соответственно правовые социальные представления – это господствующие в социуме или социальной группе образы, интерпретации юридически значимых ситуаций и образцы поведения в них. По большому счету, правовые социальные представления – это социальные представления о праве. В связи с возможной классификацией социальных представлений по степени их абстрактности, уместно говорить о правовых представлениях наиболее абстрактного уровня, включающие здравосмысловые мнения о принципах права и правовой системе в целом, и о конкретном правовом институте или норме права, представленной в качестве образца поведения в типичной правовой ситуации.
Структуру правовых социальных представлений образуют так называемое ядерное знание и периферическое[229 - Начиная с работ Ж.-К. Абрика, в структуре социальных представлений принято выделять иконическую матрицу и фигуративное ядро. – Potter J., Litton I. Some problems underlying the theory of social representations // British journal of social psychology. 1985. № 24. P. 81–90. В социальном представлении, согласно Абрику, существует центральное ядро, которое связано с коллективной памятью и историей группы, которое определяет гомогенность группы через консенсус, обеспечивает ее стабильность, выполняет функцию порождения значения социального представления и определяет его организацию. Периферическая система обеспечивает интеграцию индивидуального опыта и истории каждого члена группы, поддерживает гетерогенность группы, она подвижна, несет в себе противоречия, чувствительна к наличному контексту. Она выполняет функцию адаптации социального представления к конкретной реальности, допускает дифференциацию его содержания, предохраняет его центральное ядро. Abric J.-Cl. Central system, peripheral system: their functions and roles in the dynamics of social representations // Papers on social representations. 1993. Vol. 2. № 2. Р. 76.]. С другой стороны, в социальном представлении можно выделить информацию (сумму знаний об объекте), поле представления (содержание представления с качественной стороны) и установка (аттитюд или ориентация субъекта по отношению к объекту)[230 - Московичи С. От коллективных представлений – к социальным // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. № 2. С. 83–96.]. Правовое социальное представление можно структурировать и по субъекту на индивидуальное (персональное) групповой и собственно социальное. При этом групповые и социальные правовые представления – это не механическая сумма индивидуальных, а господствующие в данной группе или социуме идеи, ценности, выраженные в образах права. В этой связи возникает серьезная проблема: как, в какой форме существуют групповые и социальные представления и каково их содержание? Можно говорить о принципах права и типах правопонимания, образующих правовую идеологию (при традиционном подходе к структуре правосознания). К этому уровню можно отнести догму права. Но если правовое социальное представление – это обыденные идеи или здравосмысловые концепты права, то их «ядро» образуют скорее смутные мнения людей о законодательстве, оцениваемые с точки зрения справедливости, всегда соотносимые с их идиосинкразическими образами, потребностями и мотивами, но никак не идеи, например, сторонников юридического либертаризма о том, что справедливость – это принцип формального равенства, соотносимый с теоретической концепцией свободы. Ценности и предпочтения обывателя о безопасности и личных возможностях – вот господствующие сегодня правовые социальные представления[231 - Ко всему прочему необходимо проводить различие между представлением о должном и сущем в правовом социальном представлении. С точки зрения должного на первое место в отечественной правовой культуре выходят ценности патернализма, вытекающие из стратегии выживания, свойственной подавляющей части населения страны (судя по данным Левада-Центра). Когда же дело доходит до сущего – предпочтений желательного поведения в конкретной ситуации – на первое место выходит стремление к личному благополучию без всякой ориентации на Другого. Поэтому разобщенность и отсутствие доверия – главные препятствия модернизации экономики, политики и права в нашей стране. – См.: Российская идентичность в условиях трансформации: опыт социол. анализа / [отв. ред. М. К. Горшков, Н.Е. Тихонова]. М., 2005. С. 375; Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. М., 2004; Гудков Л. Д. Абортивная модернизация. М., 2011; Дубин Б.В. Россия нулевых: политическая культура – историческая память повседневная жизнь. М., 2011; Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы /Отв. ред. Рябов А. В., Курбангалеева Е. Ш. М., 2003. «Высокие» идеи превращаются в мировоззрение через их адаптацию (интерпретацию) массовой культурой. В результате формируются этнические, религиозные и иные социокультурные предубеждения, противопоставления себя Другому, которые и составляют основной массив обыденных социальных представлений.].
Правовое социальное представление обеспечивает интеграцию людей в правовой системе через процессы социализации и адаптации к изменяющимся социокультурным условиям. Адаптационная функция правового социального представления одновременно является условием его изменения или формирования нового представления. Это происходит в результате механизмов анкоринга (якорения) и объектификации по терминологии С. Московичи и его школы. «Якорение» – это закрепление социального представления в обыденном сознании группы, которое производится при фиксации на новой для группы информации. При этом выделяется некоторое свойство наблюдаемого объекта, которое позволило бы затем вписать его в имеющиеся когнитивные схемы. Объектификация продолжает процесс превращения нового, «незнакомого» в узнаваемое, вписывающееся в существующую картину мира. При этом производится «персонификация» (ассоциирование объекта со значимыми личностями), и образование «фигуративной схемы» (визуально репрезентируемой ментальной конструкции). В результате можно говорить о «натурализации» социального представления – приобретении полученным знанием статуса объективной реальности. С помощью изложенных процессов снимается напряжение между «обычным и странным разрешается в пользу первого и в ущерб второму». «Овладеть чуждым», по мнению С. Московичи, означает уложить новый элемент действительности в сетку уже имеющихся понятий путем называния и классификации: «Все нам кажется странным, ненормальным и даже тревожным до тех пор, пока остается нерасклассифицированным и неназванным»[232 - Psychologie Sociale. Ed. by S. Moskovici. Paris, 1984. P. 32.]. Таким образом, правовое социальное представление – это образ и образец юридически значимого поведения в типизированной ситуации, включая правовой статус человека, это поведение осуществляющего.
Формирование правового социального представления означает складывание и функционирование правового института. Это происходит тогда, когда социальное представление о юридически значимом поведении начинает массово воспроизводится опривыченными (хабитуализированными) практиками широких слоев населения. Формирование соответствующего навыка у субъекта (актора) снижает его когнитивную нагрузку – необходимость рассчитывать каждый свой шаг, экономит мышление и предполагает выполнение соответствующих привычных действий практически без осознанного контроля. Предсказуемость «юридической повседневности» свидетельствует о высоком уровне правовой инкультурации[233 - Термин инкультурация, введенный в научный оборот одним из наиболее известных американских антропологов сер. ХХ М. Герсковицем, означает включенность человека в культуру, овладение поведением, которое считается в данной культуре правильным. – Herskovits M.J. Acculturation: The study of culture contract. N.Y., 1938.] социализированного индивида, о совпадении его экспектаций с экспектациями контрагента – носителя соответствующего правого статуса в контексте нормы права. Обретение соответствующих юридически значимых навыков и умений свидетельствует о правовой социализации как возможности самостоятельно играть роли – реализовывать своими действиями правовые статусы[234 - Правовой статус – это не просто права и обязанности, закрепляемые законодателем за человеком, а фактическая возможность и желаемость их реализации. А это возможно только при наличии правовой идентичности индивида – соотнесении себя с соответствующим статусом.], т. е. о дееспособности индивида.
Правовые социальные представления формируются в процессе конкурентной борьбы социальных групп за право официальной номинации социальных явлений (по терминологии П. Бурдье) и, соответственно, юридической квалификации. За видимостью «естественного хода истории» скрывается борьба социальных сил, их гегемонистские стратегии. Так, по мнению М. Олсона, формирование государства – это преодоление анархии кочующих бандитов, возникающее, подобно рыночному порядку, из эгоистических стремлений тех же бандитов к максимизации взимаемой с общества дани. Необходимые условия этой максимизации образуют принципиально новый порядок, власть оседлого бандита, становящегося автократом (автократическим правительством). Он пишет, что правительства для групп больших, чем племена, обычно возникают не из общественных договоров или добровольных сделок любого вида, а скорее по причине рационального корыстного интереса у тех, кто способен мобилизовать наибольший потенциал насилия. Силовые предприниматели, естественно, не называют себя бандитами, но, напротив, дают себе и своим наследникам возвеличивающие их титулы. Иногда они даже заявляют, что правят по божественному праву. Поскольку история пишется победителями, происхождение правящих династий, конечно, обычно объясняется в терминах высоких мотивов, а не корыстными интересами. Автократы всех разновидностей заявляют, что их подданные желают, чтобы они ими правили, и тем самым подпитывают чуждое истории предположение о том, что государственная власть возникает из какой-либо разновидности добровольного выбора[235 - Olson M. Dictatorship, Democracy and Development // American Political Science Review. 1993. Vol. 87 (3). P. 568.].
По мнению Г. Брейквелл, на конструирование социального представления принципиальное влияние оказывают следующие факторы: во-первых, расстановка сил в межгрупповой борьбе, включающая воздействия СМИ и политтехнологий на население; во-вторых, связь с социальной идентичностью членов соответствующей группы, которой не может противоречить формирующееся социальное представление (в противном случае неизбежен когнитивный диссонанс); в-третьих, включение нового социального представления в весь комплекс социальных представлений, образующих менталитет социума[236 - Breakwell G. M. Social representations and social identity // Papers on social representations. 1993. Vol. 2 (3). P. 196–197.].
Несмотря на то, что правовые социальные представления навязываются обществу (выступающему, в свою очередь, как и любое коллективное образование, социальным представлением, связывающим конкретных людей в некое единое целое) элитой и референтной группой, они не могут не обладать определенной степенью легитимности[237 - О легитимности права речь впереди.], а потому – диалогичностью.
Близкие конструктивизму идеи излагаются в так называемом «инструментальном» подходе в правоведении, прежде всего, в науке частного права (если таковая, конечно, существует)[238 - См.: Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 2013; она же. Инструментальный подход в частном праве: основные положения и критическая оценка опыта применения // Известия вузов. Правоведение. – 2011. № 6. Одним из основоположников данного подхода является крупнейший отечественный цивилист Б.И. Пугинский. См.: Пугинский Б.И. Инструментальная теория правового регулирования // Вестник МГУ. Сер. И. Право. 2011. № 3.].
«Инструментализм в юриспруденции, – пишет С.Ю. Филиппова, – предполагает отказ от многовековых бесплодных дискуссий о сущности отдельных юридических понятий и постановку конкретных задач – как именно может использоваться то или иное правовое решение, для достижения каких именно конкретных целей и, наоборот, подыскание наиболее эффективных средств достижения целей лица. … Важнейшая черта инструментализма, проявляющаяся в том числе в инструментализме как подходе в юриспруденции, заключается в непременном постоянном анализе деятельности субъекта по достижению цели»[239 - Филиппова С. Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 2013. С. 28. Такой подход обосновывается тем, что в классической юриспруденции «человек, его потребности, цели, воля продолжают оставаться за рамками исследований, а право (по крайней мере в отраслевых научных работах) предстает как некая константа, объективная данность». – Там же.]. О праксиологизме инструментальной теории права пишут В.А. Сапун и К.В. Шундиков[240 - Сапун В. А., Шундиков К. В. Инструментальная теория права и человеческая деятельность // Известия вузов. Правоведение. 2013. № 1.].
Инструментальный подход в интерпретации С.Ю. Филипповой базируется на следующих «постулатах»:
«1. Человек – основа права и всех правовых явлений. Право существует только пока существует человек, оно создается человеком и для человека. Правовые предписания могут оказывать свое воздействие только на человека через его волю. Для нас этот постулат основной. Если право существует само по себе, вне человека, действуя в том числе на природу, то вся конструкция оценки пригодности правовых явлений для человека не может работать.
2. Сознание есть у человека и только у него. Никаких иных мыслящих субстанций, кроме сознания человека, нет. Нам не близка идея о том, что право само по себе – некая мыслящая субстанция, обладающая самостоятельной силой (хотя эта мысль сегодня широко распространена в юридической науке). Критически оцениваются нами также идеи о наличии сознания у юридического лица, государства и пр. Мы понимаем, что это – исключительно вопрос веры, поэтому помещаем данное утверждение в разряд постулатов инструментализма – недоказуемых, принимаемых на веру допущений.
3. Человек в состоянии понимать значение своих действий, предвидеть их последствия (без этого допущения невозможно сконструировать понятие цели как предвиденного мысленного результата деятельности)»[241 - Там же. С. 33–34.].
Инструментальный подход, таким образом, «подразумевает исследование правовых явлений с позиции их целесообразности, функциональной пригодности для использования в процессе правовой деятельности людей для достижения ими собственных правовых целей. Единственным мерилом необходимости существования того или иного правового явления выступает его полезность для человек»[242 - Там же. С. 31–32.].
Ядром инструментального подхода объявляются три категории: правовая цель, правовое средство и правовая деятельность. При этом последняя «не представляет собой какую-то особую деятельность, отличную от иных видов человеческой активности», а представляет собой «человеческую деятельность вообще, взятую в одном из множества ее ракурсов». Поэтому «никакой правовой деятельности как отдельного, самостоятельного вида человеческой активности, изолированного от прочих видов его коммуникаций с окружающей действительностью, не может существовать и мыслиться. Причиной тому является то простое обстоятельство, что потребности человека, удовлетворяемые посредством реализации права, лежат в его природе (как биологического и социального существа), и результат применения правового инструментария тоже должен быть им воспринят, уменьшив тем самым неудовлетворенность, в силу которой деятельность и осуществлялась»[243 - Там же. С. 183–185.].
Признавая справедливость изложенных положений, конкретизируемых на примере материала из частного права, тем не менее, нельзя не заметить, что предложенный подход остается в русле утилитаризма и прагматизма конца Х1Х – нач. ХХ вв. или «неклассической» юриспруденции, из которой в конце ХХ в. складывается постклассическая парадигма. Выскажу некоторые соображения по поводу этой весьма перспективной концепции, которые, возможно, поспособствуют ее совершенствованию.
Во-первых, заявленный инструментально-социологический подход стоило бы направить в сторону социологизации нормы права, институтов права и правоотношений, тем более, что в литературе имеются интересные предложения на этот счет[244 - В.А. Четвернин утверждает, что при «социологическом “подходе”, при котором “право” и “правопорядок” отождествляются, право понимается как система социальных норм или институтов (право в целом характеризуется как один из основных социальных институтов), содержание которых может отличаться от официальных, законодательных моделей. Например, каких-то официально предписанных правил в реальности может и не быть и, наоборот, реальные нормы могут и не иметь официального выражения». «Правовые нормы, как и любые социальные нормы (т. е. правила, которым подчиняются социальные взаимодействия) проявляются, во-первых, в самой социальной деятельности, внешне выраженном поведении, во-вторых, в знаковой форме, в авторитетных текстах». «Социальный институт … – устойчивый порядок социальных коммуникаций или социальной деятельности, интеракций, воплощающий в себе те или иные социальные нормы (и соответствующий принцип) и выполняющий определенную функцию». «В формалистической интерпретации правовой институт – это официально принятая модель (образец) социальной деятельности, которая (модель) воспринимается как таковая, т. е. в отрыве от социальной реальности. Напротив, в институционализме – это формализованные и неформализованные правила, которым реально подчиняется социальная деятельность, а модели, которым не соответствует социальная практика, институтами не признаются». – Четвернин В.А., Яковлев А.В… Институциональная теория и юридический либертаризм // Ежегодник либертарно-юридической теории. Вып. 2. 2009. С. 215–225. В начале ХХ в. об этом же, в принципе, писали Е. Эрлих, «правовые реалисты» США, а в сер. ХХ в. – представители скандинавского правового реализма. «Правовая норма … является перешедшим в действие правовым предписанием в таком виде, в котором оно существует в даже довольно незначительном общественном союзе и может существовать без какой-либо фиксации в вербальной форме». – Эрлих О. Основоположение социологии права. СПб., 2011. С. 95.]. В противном случае получается, что юридическая деятельность, которая подробно и обстоятельно излагается в цитируемой монографии, протекает вне правоотношений и простых форм реализации права.
Во-вторых, «социологический иструментализм» С.Ю. Филипповой не учитывает и не включает в предмет научного анализа результатюридической деятельности. Критикуя «интеграционный» подход В.А. Сапуна к понятию «правовые средства», автор заявляет, что подмена правовой цели результатом недопустима, так как результат – объективная реальность. «Он совсем не обязательно совпадает с целью, являющейся лишь мысленной моделью будущего, т. е. с заданным, планируемым результатом: даже самый минимальный жизненный опыт свидетельствует о том, что фактически достигнутый результат нередко существенно отличается от заданного (цели). Закладывая в понятие правового средства результат, а не цель, ученый делает правовое средство заведомо неопределенным и неопределимым. В отличие от правовой цели, существующей в сознании субъекта на момент применения правового средства, результат появляется лишь после такого применения, заранее он известен лишь с большей или меньшей степенью точности (погрешности), а потому брать его в основу определения понятия правового средства не вполне корректно»[245 - Филиппова С. Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 2013. С. 113.]. Однако как в таком случае измерить эффективность права, правового регулирования? Как установить степень достижения цели? Отказ от изучения результата как раз и приводит к догматизации излагаемого автором социологического подхода. Соглашаясь с тем, что измерить результат воздействия права на общество чрезвычайно сложно, невозможно принять изложенную точку зрения. Ко всему прочему, С. Ю. Филиппова сама заявляет, что правовые цели могут быть недостижимы, они могут противоречить друг другу (цель, сформулированная в законе и преследуемая субъектом правореализации)[246 - Там же. С. 56.]. При этом утверждается: «под правовой целью субъектов правореализационной деятельности мы будем понимать тот правовой результат, на который рассчитывают субъекты права при совершении ими юридически значимых действий»[247 - Там же. В другом месте читаем: «…правовой целью является я любой мыслимый правовой результат, к которому лицо стремится и который, по его мнению, должен привести к удовлетворению его потребности». Там же. С. 58. Если основное отличие цели от результата состоит в «осознанности», «предвосхищаемости» и «желаемости» результата, то замечу, что «объективная социальная реальность» не существует вне и без социальных и индивидуальных представлений или «субъективной», ментальной стороны. В любом случае изучение правовой деятельности невозможно вне и без анализа результата, к которому она приводит.]. Получается, что результат как «объективная реальность» все же необходимо изучать. По большому счету – это азбука теории управления: именно анализ результата обеспечивает обратную связь для корректировки цели, задач, средств и других элементов управленческого процесса.
Некоторые сомнения вызывает утверждение С.Ю. Филипповой, что правовые средства и цели являются автономными и не могут совпадать с другими социальными средствами и целями. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, прочитав следующий пассаж: «…использовать правовые средства можно исключительно для достижения правовых целей; к решению иных (безусловно, чрезвычайно важных, но все-таки иных, не правовых, не юридических) проблем и достижению иных целей они имеют лишь опосредованное отношение»[248 - Там же. С. 113–114.]. Это не вяжется с замечательной характеристикой правовой деятельности как «момента общечеловеческой деятельности». Если цель и средства включаются автором в систему юридической деятельности[249 - Там же. С. 188.], то следует сделать вывод, что правовые средства и цели – также «моменты» или «стороны» (по Гегелю) общечеловеческих средств и целей, не существующих как некие самостоятельные сущности. Не существует «чистых» правовых явлений, средств, целей и т. д. Любое правоотношение, понимаемое как взаимодействие людей – носителей статусов субъектов права – всегда включает несколько социальных «пластов» или «аспектов»: психический, культурный, часто экономический (это характерно для всех частноправовых правоотношений), политический (для конституционно-правовых) и т. д. «Любой акт правового поведения, – утверждал Н.С. Тимашев, – выступает одновременно биологическим, политическим, экономическим, религиозным или культурным актом…»[250 - Тимашев Н. С. Рецензия // Эрлих О. Основоположение социологии права. СПб., 2011. С. 670.]. Поэтому какая-либо «юридическая» цель всегда одновременно выступает другой социальной целью: обеспечением общественного порядка для уголовного права и процесса, ростом экономики для гражданского права, оптимизацией демографии для права социального обеспечения, нормализации экологической ситуации для экологического права и т. д. Это же, в принципе, касается и правовых средств, у которых присутствует автономная форма, но которые функционируют всегда вместе с другими социальными средствами и «порождают изменения в общественной жизни»[251 - Там же. С. 111.]. Поэтому право в целом, правовые цели и средства могут быть выделены как автономные только аналитически и служат удовлетворению потребностей человека, на чем вполне аргументировано настаивает С.Ю. Филиппова[252 - Там же. С. 114. Ср.: «…признанные правом интересы общества находят отражение в правовых нормах…». Там же. С. 110. Т. е. право закрепляет социальные интересы, которые тем самым превращаются в «правовые».].
Изложенные замечания не так уж и принципиальны. Более важным представляется то, что прагматизм конца ХIХ – нач. ХХ вв. значительно трансформировался в аналитической философии, постструктурализме и посклассической психологии конца ХХ – нач. ХХ вв[253 - См.: Петренко В.Ф. Психосемантика как направление конструктивизма в когнитивной психологии // Петренко В.Ф. Многомерное сознание: психосемантическая парадигма. М., 2010. С. 158–200; Скребцова Т. Г. Когнитивная лингвистика: Курс лекций. СПб., 2011. С. 22–30. О трансформации и расширении «сферы прагматики» см.: Заботкина В.И. Слово и смысл. М., 2012. С. 13–17.]. Юридические практики в подавляющем большинстве случаев не предполагают калькулируемость действий с точки зрения осознания потребностей, перевод их в интересы, формулирование цели, ее конкретизацию в задачах – алгоритмах достижения цели, определение средств достижения задач и цели, планирование действий, их претворение в жизнь, анализ достигнутого результата, корректировку цели и т. д. Редкий юрист рефлексирует в магазине по поводу договора купли-продажи или в общественном транспорте по поводу договора перевозки, если он (договор) заключается и реализуется без проблем. Даже большинство убийств (кроме заказных) совершается ситуативно, без осмысления своих действий и их последствий. Перенесение рационально мыслящего «человека экономического» в ходе экспансии экономики на другие сферы жизнедеятельности общества, в том числе, в сферу права – не более чем умозрительная конструкция, не выдерживающая критики[254 - См. подробнее: Честнов И. Л. Экономический анализ права: теоретико-методологические основания и перспективы научного направления // Честнов И.Л. Постклассическая теория права. Монография. СПб., 2012. С. 574–601.]. Анализ правовых средств и цели уместен только для тех случаев, когда люди, в том числе, правоприменители, сталкиваются со сложными ситуациями, делами. Большинство населения, как известно, достаточно поверхностно осведомлены о позитивном праве. Но при этом в любом обществе сохраняется правопорядок. На чем же он основан? На механизме социализации – приобщения человека к господствующим социальным представлениям, на выработке в процессе личного опыта категоризации и типизации социального мира. Даже мышление опытного юриста в простых делах основано на стереотипизации, что вытекает из психологии прототипов[255 - См. подробнее: Скребцова Т. Г. Указ. Соч. С. 84 – 107.].
Думается, что развитие инструментального социологического подхода должно учитывать эти и другие достижения «смежных» наук.
Подводя промежуточный итог обсуждаемого вопроса, можно заключить, что все правовые феномены, как и понятия о них – суть социальные конструкты[256 - Справедливость как фундаментальный принцип права (по мнению сторонников юридического либертаризма) не есть некая онтическая данность, она порождается процедурными средствами, конструируется; «справедливое неизвестно заранее» – так интерпретирует Д. Ролза П. Рикер. – Рикер П. Справедливое. С. 70.].
Социокультурный контекстуализм
Право – социокультурный феномен. Его социокультурная обусловленность права выражается, прежде всего, в социальном назначении. Право существует не ради себя (поэтому система права не может быть самодостаточной, самореферентной системой). Право сконструировано ради обеспечения нормального функционирования социума, в чем проявляется его функциональная значимость[257 - Странно, что это, казалось бы, очевидное положение вызывает неприятие у многих теоретиков права.]. При этом критерий «нормальности» определяется исходя из господствующих ценностей, которыми оценивается социальная реальность, что дает основание для правовой политики (правовой номинации или означивания социальных ситуаций как правовых).
Признавая справедливость высказанных положений, приходится констатировать, что на сегодняшний день социальное назначение права практически не исследовано[258 - Известнейший отечественный теоретик уголовного права А.Э. Жалинский справедливо пишет: «Не вполне понятно, как уголовное право служит обществу. Отсутствует должная ясность относительно природы, тенденций и соответственно места уголовного права в быстро меняющемся современном обществе. … В российском обществе, в значительной части по вине профессиональных юристов, нет четкого представления как о позитивных и негативных следствиях функционирования действующего уголовного права, так и о способах использования его возможностей». И продолжает: «В уголовно-правовой науке, и не только российской, не решен ее основной вопрос: какова действительно роль уголовного закона. И в особенности каково действительное воздействие уголовного права на поведение людей». Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 5, 7–8, 106.]. Функциональная значимость права проявляется в его легитимности, выступающей сущностным критерием права по А.В. Полякову. Интересно, что все значимые теоретики права ХХ в. – Г. Кельзен, Г. Харт, Р. Алекси и др. признают социальную валидность права (т. е. легитимность) как необходимый аспект его бытия.
В этой связи серьезнейшей проблемой юридической науки является диалектика универсального и контекстуального. Существует ли универсальное право и представление о его общих – для всех времен и народов – признаках? Другими словами, есть ли нечто общее, что свойственно явлениями и процессам, именуемым юридической теорией (точнее – теориями или различными концепциями права) термином право, с учетом его исторической изменчивости, культурной обусловленности и многогранности?
Мировоззрение, господствующее со второй половины ХХ в. и до наших дней, казалось бы, не оставляет возможности положительного ответа на вопрос о возможности универсального права и неотделимого от него знания о нем, так как сегодня с легкой руки культурной антропологии, аналитической философии[259 - Речь идет, по крайней мере, о релятивистском направлении в аналитической философии, представленном идеями позднего Л. Витгенштейна (языковых игр, прежде всего), концепцией возможных миров Н. Гудмэна, теорией онтологической относительности У. Куайна и др. но является односторонним, и ведет к радикальному упрощению права. (Schlag P. Normativity… P. 1115). Из одной-единственной перспективе вытекает вера в то, что существует единственно верная онтология права, которая не зависит от всех субъектов права (за исключением судей) (Ibid. P. 1116–1117). Я. И. Гилинский – один из немногих в российской юридической науке, кто использует принцип дополнительности в качестве методологии криминологических исследований. По его мнению, вытекая из принципа относительности знаний (релятивизма) и необычайной сложности даже самых «простых» объектов, принцип дополнительности в изложении Н. Бора состоит в том, что «соntгагiа sunt complementa» (противоположности дополняют друг друга): лишь противоречивые, взаимоисключающие концепции в совокупности могут достаточно полно описать изучаемый объект; иными словами, необходимо не «преодоление противоречивых суждений об объекте, а их взаимодополкительность). – Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. 2-е изд, перераб. и доп. СПб., 2009. С. 25–26.], гипотезы лингвистической относительности, постструктуралистов, постмодернистов и т. д. доминирует идея релятивизма.
Принципиально важную роль в становлении концепции релятивизма сыграл принцип дополнительности Н. Бора, имеющий общеметодологическое значение. Он означает контекстуализм научного знания – его зависимость от позиции наблюдателя, отсутствие привилегированной точки зрения («Божественного наблюдателя» – Х. Патнем), а тем самым, несоизмеримость научных парадигм. Поэтому, например, научные факты всегда являются «теоретически нагруженными»: они зависят от того, как их оценивают с позиций соответствующей теории и сами по себе (без теории) ничего не доказывают[260 - В юриспруденции принцип дополнительности пока не получил долженствующего ему применения. Косвенно он используется одним из лидеров критических исследований в юриспруденции США, профессором школы права университета Колорадо П. Шлагом (См.: Schlag P. The Problem of the Subject // Tex. L. Rev., № 69, 1991; Schlag P. Normativity and the Politics of Form // U. Pa. L. Rev., № 139, 1991). В частности, американский юрист поднимает проблему субъекта права и «взгляда изнутри» на право (с точки зрения судьи). Такой взгляд, по его мнению, неизбеж-]. В связи с принципом релятивизма нельзя не вспомнить ограничительные теоремы К. Геделя, опровергающие возможность существования формализованных непротиворечивых и одновременно полных (завершенных) систем. В частности. Первая теорема Геделя гласит: если система (множество) непротиворечива, то она неполна (незавершенная); если же она полна (завершенная), то она противоречива.
Лингвистический «поворот» в социогуманитарном знании сформулировал зависимость социальной реальности от представлений о ней: ситуация реальна настолько, насколько она воспринимается как реальная – гласит знаменитая «теорема У. Томаса». Это же утверждают и сторонники социальной феноменологии. Поэтому релятивизм в научном познании одновременно оказывается онтологическим релятивизмом социального бытия: социальный мир не существует вне знакового (языкового) его опосредования.
Таким образом, релятивизм преодолевает наивно-реалистическое представление о познании и мире: познание не является отражением природы («зеркалом природы» по Р. Рорти), т. к. мы никогда не сможет сравнить представление о реальности с самой реальностью (Т. Рокмор), ибо последняя дана нам только как представление.