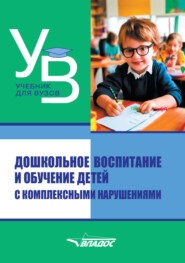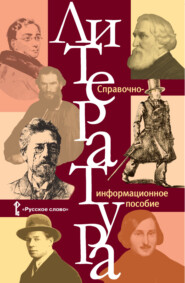По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Постклассическая онтология права
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все это относится и к юридическому знанию, которое – с точки зрения постклассической эпистемологии – обладает лишь относительной автономностью в среде социогуманитарного знания и обусловлено социокультурным контекстом (прежде всего, господствующими типами правопонимания), господствующей картиной мира, мировоззрением. Юридическая наука – это «частная социальная теория», содержание которой определяется связью с социальной философией и другими общественными науками, обладающая лишь относительной автономией. Если знание о праве относительно (социально обусловлено), то тем самым, с постклассической точки зрения обосновывается тезис Гегеля, что право – момент, сторона общества.
В связи с вышесказанным можно сформулировать онтологический принцип релятивизма права: право – это социальное явление, обусловленное взаимодействиями с другими социальными феноменами, вне и без которых право не существует, и с обществом как социальными представлениями (по терминологии С. Московичи), воспроизводимыми практиками широких слоев населения, и объединяющими людей на определенной территории. Отсюда напрашивается тезис, который может показаться эпатирующим: нет «чистых» правовых явлений, как нет и не может быть «чистой системы права» Г. Кельзена. Право, как и любой социальный институт, не имеет единственного и единого референта – оно многогранно, многоаспектно, и существует в социальном мире в виде взаимодействий людей, опосредованных социальными (интериоризируемыми в индивидуальные) представлениями, объективированными знаковыми формами, например, нормативными правовыми актами. В этих интеракциях всегда сосуществуют психика (психические феномены), культура, язык, часто – экономика, политика и т. п. Выделить юридический момент, например, в договоре купли-продажи, перевозки или в голосовании на избирательном участке, в подаче жалобы и т. д. можно только аналитически. Таким образом, нет правовых явлений (законов, индивидуальных актов, правоотношений), которые одновременно не были бы психическими (как писал в свое время Л.И. Петражицкий), экономическими, политическими и т. д. – в широком смысле – социокультурными феноменами.
Эту релятивность права применительно к таким нейтральным, казалось бы, для права явлениям, как пол, раса, вероисповедание, политическая принадлежность и др. эмпирически доказали в 20–30 гг. ХХ в. «реалисты США» (К. Ллевеллин, О. Холмс, Д. Фрэнк и др.). Они показали, что даже пол, не говоря о расе, среднестатистически влияет на выносимое судьей решение (если подсудимый либо мужчина, либо женщина, либо белый, либо афроамериканец).
Как уже утверждалось выше, обосновать «чистую систему права» – универсальную, непротиворечивую, завершенную, замкнутую, отделенную от «грязи» политики, экономики, от мира сущего – невозможно по нескольким соображениям. Во-первых, это противоречит второму закону термодинамики: в мире не существует замкнутых систем, т. к. в них самовозрастает энтропия и они неизбежно саморазрушаются. Поэтому реально существующие жизнеспособные системы – открытые, обменивающиеся веществом и энергией со средой. Во-вторых, ограничительные теоремы К. Геделя, о чем уже упоминалось, доказывают, что не существует одновременно непротиворечивых и замкнутых (завершенных или полных) систем. Чтобы логически обосновать систему, необходимо иметь исходную аксиому, например, основную норму, с позиций которой можно говорить о юридической валидности конституции, законодательства и других форм права. Однако если исходная аксиома – основная норма Г. Кельзена (содержание которой по Г. Кельзену абсолютно нейтрально)[261 - На этом настаивает Р. Алекси. – Алекси Р. Понятие и действительность права. Ответ юридическому позитивизму. М., 2011. С. 129.] или норма-признание Г. Харта не имеет содержательного определения, то как можно быть уверенным в том, что конституция (например, Сталинская Конституция 1936 г.) является логически и юридически обоснованной[262 - В конце жизни Г. Кельзен утверждал: «Моя основная норма – это фиктивная норма которая предполагает фиктивный акт волеизъявления, устанавливающий данную норму. Это – фикция о том, что некий властный орган хочет, что нечто должно быть так, a не иначе». Позже Кельзен уточнит: «Предположение об основной норме не только противоречит реальности – поскольку такая норма не только не может существовать как значение некоего акта воли, но и содержит противоречие сама в себе: она представляет собой акт управомочивания некоей высшей морали или некоей правовой власти, и этот акт исходит от некоей другой власти, которая носит полностью надуманный характер» – Kelsen H. The Function of Constitution // Еssays on Kelsen. Oxford, 1986. p. 117. – Цит. по: Антонов М.В. Чистое учение о праве против естественного права? // Ганс Кельзен: чистое учение о праве, справедливость и естественное право. С. 95.]?
Не спасает основную норму и позиция сторонников теории естественного права, например, Р. Алекси, изложенная им в книге «Понятие и действительность права». Полагая, что между правом и моралью существует необходимая связь, он пишет: основная норма не может быть обоснована другой нормой, но может быть оправдана принципами морали[263 - Там же. С. 142.]. Однако принцип релятивизма не дает возможности признать правоту Р. Алекси и других сторонников юснатурализма. Это связано с тем, что такие исходные принципы морали, как свобода, справедливость, добрые нравы и др. принципиально по-разному трактуются в разные исторические эпохи и в разных культурах. Так, А. Вежбицка – лингвист с мировым именем – доказывает, что свобода (а право – это мера свободы практически при любом типе правопонимания) для западного европейца – это благо, выражающее возможность совершения действия, ограниченная свободой другого. Для славянина (поляка или русского) – это «вольность», вседозволенность, «перешагивание границ» (хотя скорее тоже благо). А для японца свобода – это антиценность, т. к. наделена значением противопоставления себя коллективу[264 - Wierzbicka A. Understanding Cultures trough their Key Words: English, Russian, Polish, German, Japanese. – New York, 1997.]. О невозможности рационального выбора между различными моральными ценностями писал А. Макинтайр, для которого понятия справедливости, морали, права следует признать релятивными по отношению к конкретной традиции. Поэтому с его точки зрения не существует теоретически нейтральной, дотеоретической основы, позволяющей рассудить спор конкурирующих мнений[265 - MacIntyre. Three Rival Versions of Moral Inquiry: Encyclopaedia, Genealogy and Tradition. L., 1990 P. 172–173.]. Эта проблема в политологии с легкой руки У. Гэлли еще в 1955 г. получила наименование «сущностной оспариваемости» («essential contestability») таких понятий, как справедливость, свобода, демократия в силу их принципиальной многозначности, комплексности, ценностной природы критериев определения. Такого рода понятия, писал Гэлли, не имеют приоритета друг перед другом, поэтому каждая точка зрения может быть теоретически обоснована и оспорена. Более того, установить эмпирическим путем адекватность этих принципиально разных позиций невозможно. Поэтому спор между ними в принципе неразрешим[266 - Gallie W.B. Essentially Contested Concept // Proceedings of the Aristotelian Society. Vol. 56. 1955.]. Р. Дворкин в этой связи заявляет, что у принципов права и судебных решений нет прямой связи[267 - Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004., С. 71.], а неопределенность стандартов, лежащих в основе Конституции, неизбежно вызывает разногласия при их использовании «разумными людьми доброй воли»[268 - Дворкин Р. Указ. Соч., С. 188.]. Поэтому «слово “права” в разных контекстах имеет разную силу»[269 - Там же. С. 257.]. Известный антрополог Р. Д’Андрад утверждает, что между конститутивными нормами (культурными институциями, которые можно считать принципами права) и регулятивными нормами нет связи, подчиняющейся законам логики: многие конститутивные правила могут быть связаны с совершенно разными нормами, относящимися к разным субкультурам[270 - D’Andrade R.G. Cultural Meaning Systems // Shweder R.A., LeVine R.A. (eds.) Cultural Theory. Essays on Mind, Self and Emotion. Cambridge, L., N.Y., New Rochelle, Melbourne, Sydney. 1984. P. 91–93.].
Для обоснования универсальности права, его единого, всеобщего критерия, невозможно использовать «формулу Радбруха», на чем настаивают сторонники юснатурализма. Закон превращается в «неправо» тогда, «когда действующий закон становится столь вопиюще несовместимым со справедливостью, что закон как “несправедливое право” отрицает справедливость»[271 - Радбрух Г. Философия права. М., 2004, С.234.]. Эта формула (которая в интерпретации юридического либертаризма звучит как «запрет на агрессивное насилие») может быть использована в социуме, в котором имеется моральный консенсус по вопросу «нетерпимых нарушений» прав человека. Но даже в таком случае она непригодна для оценки с моральной точки зрения большинства нормативных правовых актов, т. к. они в большинстве случаев являются морально нейтральными. Если даже такое знаковое событие, как разрушение Башен-близнецов в Нью-Йорке 11.09.2001, одними воспринималось как тяжелейшая трагедия, а другими (жителями европейских государств – выходцами из стран мусульманского мира, получающих социальные пособия) как торжество справедливости, то о каком моральном консенсусе может идти речь?
Релятивность права (точнее – законодательства) не дает возможность сформулировать универсальные содержательные критерии, например, уголовно-правовых запретов. Я.И. Гилинский в этой связи справедливо замечает: «В реальной действительности нет объекта, который был бы «преступностью» (или «преступлением») по своим внутренним, имманентным свойствам, sui generis, per se. Преступление и преступность – понятия релятивные (относительные), конвенциональные («договорные»: как «договорятся» законодатели), они суть социальные конструкты, лишь отчасти отражающие отдельные социальные реалии: некоторые люди убивают других, некоторые завладевают вещами других, некоторые обманывают других и т. п. Но ведь те же самые по содержанию действия могут не признаваться преступлениями: убийство врага на войне, убийство по приговору (смертная казнь), завладение вещами другого по решению суда, обман государством своих граждан и т. п.»[272 - Гилинский Я. И. Указ. Соч., С. 37.].
Признавая справедливость идей, сформулированных известным криминологoм, в то же время замечу, что без уголовного запрета, например, убийства, ни одно общество не в состоянии существовать. Поэтому в любом социуме есть те нормы, которые обеспечивают его воспроизводство. Это конститутивные для экономики, политики и других интеракций, из которых складывается общность людей, нормы, без которых эти общественные отношения (интеракции и их ментальные образы) не смогут нормально функционировать. Например, без закрепления права частной собственности невозможна нормальная рыночная экономика; без нормы, устанавливающей правила проведения свободных выборов невозможна демократическая политическая система; а без запрета убийств в какой-либо форме (хотя бы обычаем кровной мести) ни один социум не в состоянии выжить. Проблема их выявления – одна из насущных для теории права. Сегодня невозможно сформулировать универсальные содержательные критерии их экспликации, тем более, что наука не в состоянии описать и объяснить объект исследования полностью, целиком, аподиктично. Но это не означает, что их нет. Для их обнаружения требуется социолого-правовое исследование данного конкретного социума, призванное зафиксировать, в т. ч. «качественными методами», широко распространенные, многократно используемые и положительно оцениваемые нормы (правила) и практики их использования в повседневной жизнедеятельности как правоприменителями, так и обывателями, их легитимность и эффективность.
Таким образом, принцип релятивизма применительно к праву означает содержательный антиуниверсализм, а также исторический и социокультурный контекстуализм при допустимости абстрактной универсальности права.
Антиуниверсализм – это отказ от претензий юридической науки на поиск окончательных ответов на вопрос о сущности права. Нет единого права (сущности права) для всех времен и народов. Контекстуализм права – взаимообусловленность его историей, культурой-цивилизацией: восприятием права элитой и населением (отсюда проблема транзита правовых институтов).
Вышесказанное не означает, что релятивность права – это произвол и анархия[273 - Интересно, что М.М. Бахтин в начале ХХ в. определял релятивизм как механизм (средство) преодоления общего кризиса культуры – разрыва между «объективной» культурой и реально живущим человеком, между «смыслами» культуры и мотивами творческих поступков, направленных на развитие этих «смыслов». – Гоготишвили Л.А. Варианты и инварианты М.М. Бахтина. С. 121.]. Как отмечалось выше, релятивность права – это зависимость и обусловленность права обществом. С точки зрения диалектической социологии права, право, как и любой другой социальный институт, выполняет социальную функцию: обеспечивает нормальное функционирование социума (как минимум – самосохранение, как максимум – процветание, желаемый большинством населения уровень развития)[274 - Интересно, что эту же идею провозглашают такие разные теоретики, как Г. Харт и Л. Фуллер. «Минимум естественного права» Г. Харта, по сути, есть проявление «естественного закона» – стремление всех живых существ к выживанию, самосохранению. «Чтобы поднять … вопрос о том, как люди должны жить вместе, мы должны исходить из того, что их целью в общем-то и является жить». – Харт Г. Понятие права. СПб., 2007. С. 194. Л. Фуллер полагал, что выживание составляет цель всех человеческих устремлений, а «поддержание коммуникации». – Фуллер Л. Мораль права. М., 2007. С. 221. Замечу, что для поддержания коммуникации необходимо «трансцендентное» условие – наличие социума. Поэтому обеспечение его самосохранения является более фундаментальным принципом, по сравнению с поддержанием коммуникации.]. Право это делает с помощью нормирования наиболее значимых общественных отношений; экономика – производством и распределением материальных благ; политика – принятие политических решений и т. д. В этом как раз и состоит сущность права, минимум его универсальности. Почему минимум – потому, что содержательно – это «голая абстракция», наполняемая конкретным содержанием в различные исторические эпохи и в разных культурах-цивилизациях. Конкретное содержание права как раз и задается контекстом исторической эпохи и культуры-цивилизации.
Таким образом, универсальное в праве – это его социальное назначение. У всех народов и во все времена существовали и существуют конститутивные для соответствующего социума нормы. Они-то и должны, с моей точки зрения, именоваться правом. Другими словами, правовыми, с этой точки зрения, могут быть названы только такие нормы, закрепленные в соответствующих формах (источниках), которые объективно являются функционально значимыми – обеспечивают как минимум выживание, а как максимум – достижение желаемого уровня функционирования социума, а сегодня – человечества. Так, ни одно общество не может обойтись без уголовно-правовых запретов убийства, кражи, грабежа и других преступлений mala in se[275 - При этом не важно, в какой форме эти нормы закрепляются – законодательства, религиозных максим, обычаев и т. д. Важно, что без них в обществе восторжествует анархия, и оно прекратит свое существование.], хотя их конкретное закрепление (формулировка) значительно отличается в разные исторические эпохи и в разных культурах-цивилизациях. Для нормального функционирования рыночной экономики необходимыми – конститутивными – являются конституционные и гражданско-правовые нормы, закрепляющие право частной собственности, альтернативность форм собственности, добровольность заключения договоров, запрет на монополию и др. Для демократической политической системы невозможно обойтись без норм, регулирующих свободные и регулярно проводимые выборы, свободу средств массовой информации, многопартийность и др. Конечно, выявить функциональную значимость отдельных норм достаточно проблематично, тем более, что многие нормативные правовые акты занимают «нейтральное» положение по отношению к сформулированному критерию[276 - Так, «нейтральными» можно считать многие процессуальные или организационные нормативные правовые акты, закрепляющие процедуры и структуру органов государственной власти, для которых важно само по себе единообразие порядка деятельности. Не так важно, по какой стороне должен двигаться автотранспорт – по правой или как в Англии или Японии по левой. Важно, чтобы движение было по одной стороне, что и является функционально значимым для дорожного движения. В противном случае дорожное движение превращается в одну большую пробку, что можно наблюдать сегодня в крупных городах России.]. Но можно выявить «неправовые» нормы (точнее – статьи нормативных правовых актов), например, по таким косвенным признакам, как распространенность, многократное использование и положительная оценка. Если правило поведения по какой-то причине не распространено среди широких слоев общества, не используется (применяется) правоприменителем и/или населением и отрицательно оценивается общественным правосознанием – то такая статья нормативного правового акта или целый нормативный правовой акт не обладает функциональной значимостью и не может считаться нормой права[277 - В институционализме, пишут В.А. Четвернин и А.В. Яковлев, правовой институт – это «формализованные и неформализованные правила, которым реально подчиняется социальная деятельность, а модели, которым не соответствует социальная практика, институтами не признаются…. С точки зрения либертаризма, институт является правовым, если соответствует принципу права, выполняет правовую функцию, причем нормы этого института, как правовые нормы, существуют даже тогда, когда они не отражены в официальных прескриптивных текстах». – Четвернин В.А., Яковлев А.В. Институциональная теория и юридический либертаризм // Ежегодник либертарно-юридической теории. Вып. 2. 2009. С. 225.].
Функциональное назначение права, с моей точки зрения, состоит как раз в том, чтобы нормировать (устанавливать рамки, границы) те взаимодействия между людьми, носителями социальных статусов, которые являются наиболее важными, жизненно необходимыми. Взаимность признания прав и обязанностей – сущностный признак права для А.В. Полякова – может быть таковым, если взаимное признание не приводит к социальной или экологической катастрофе, в противном случае некому будет признавать друг друга и вступать в правовые коммуникации[278 - Можно ли полагать сущностью, назначением права взаимное признание прав и обязанностей? А для чего, собственно, это необходимо? Как минимум, для удовлетворения человеческих потребностей. Но потребности будут удовлетворены только в том случае, если механизмы и условия их удовлетворения будут воспроизводится снова и снова, т. е. будет обеспечено нормальное функционирование общества.]. В так понимаемой функциональной значимость права, с моей точки зрения, коренится трансцендентный[279 - Почему трансцендентный? Потому, что он находится за пределами права – в обществе.], сущностный признак права, отличающий право от других социальных норм. Очевидно, что взаимное признание правил этикета не относится к праву, хотя взаимности в них ничуть не меньше, чем в реализации многих нормативных правовых актов. Но их нарушение не приведет к деградации, аномии в обществе, а вот отсутствие норм (образцов поведения, реализуемых в практиках) рыночной конкуренции или свободных выборов приводит к деградации рыночной экономики-и демократической политической системы. Поэтому не все социальные нормы объективно выполняют функцию социальной интеграции, как полагает, например, Н.В. Варламова, а только некоторые – которые и стоит именовать правовыми.
Очевидно, что правящая элита и референтные группы, формулируя правовые инновации, не обладают полным знанием о «непреднамеренных последствиях», которые всегда вероятностны при более или менее широкомасштабных реформах законодательства. Ко всему прочему они всегда преследуют и собственные цели, не совпадающие (хотя бы отчасти) с интересами населения. Но при всем этом, субъекты законотворчества не могут не учитывать трансцендентный критерий права – его функциональную значимость. В противном случае может статься так, что управлять будет некем и нечем. При отсутствие универсальных, объективных критериев научной аподиктичности основание для отнесения закона к правовому всегда вероятностное[280 - Только позиция «Божественного наблюдателя» (по терминологии Х. Патнема) может определить, какие сегодня нормы являются «истинно правовыми». Невозможность дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, что такое право, не означает, «что его нет», как утверждает А.В. Поляков. – Поляков А.В. Право: между прошлым и будущим. Предисловие главного редактора // Известия вузов. Правоведение. 2013. № 3. С. 9. Ведь он сам справедливо пишет в своих замечательных работах, что право – многомерное явление. Если ко всему прочему признавать, что человеческий разум (даже научный) ограничен, что электрон по своим признакам неисчерпаем и не может быть описан одним единственным способом, т. е. аподиктично, то что уж говорить о праве! Но невозможность полного, объективного его описания не означает невозможность конструировать те нормы, которые выполняют минимальную функциональную значимость. Финикийцы не знали законов астрономии и физики, но это не мешало им благополучно бороздить просторы Средиземного моря. Кроме того, концепт «личностного знания» М. Полани или «фонового знания» Г. Райла акцентирует внимание на процессуальности, использовании знания в условиях всегда ограниченного и неполного «знания что?». Успешность действия не всегда предполагает знание правил его совершения, утверждал М. Полани. Поэтому отсутствие аподиктического знания о праве, постоянная возможность его уточнения, углубления и изменения не дает основание для утверждения, что мы не можем упорядочивать свою жизнь на основе того, что именуем правом.]. Поэтому приходится довольствоваться малым: утверждением, что правом является то, что сегодня (хотя завтра все может кардинально измениться) господствующими социальными группами, обладающими реальной возможностью навязывать свое мнение населению, признается таковым. Другими словами, право – это достигнутый в результате диалогических дискурсивных практик (если мы живем в демократическом обществе)[281 - Такими практиками, например, можно считать процедуры делиберативной демократии, развиваемой Ю. Хабермасом или более реалистичные правила со-общественной демократии, разработанные для многосоставных обществ А. Лейпхартом.] компромисс по поводу того, какие социальные явления и процессы считать правовыми, какое поведение считать должным, если при этом не обнаруживается дисункциональность социума (в противном случае все теоретические и практические рассуждения на тему коммуникативности или диалогичности права, права как справедливости и т. д. окажутся никому не нужными).
Социокультурный контекстуализм права привлекает внимание к проблеме действительности права как его действенности. Действительность права – одна из важнейших категорий теории права и всей юридической науки, позволяющей показать бытие (существование) права, механизм его действия, включая его – механизма – условия и факторы. В то же время приходится констатировать, что данная категория в современной юриспруденции трактуется по-разному, в зависимости от типа правопонимания. Более того, по мнению Р. Алекси, понятие права определяется ответом на вопрос что такое действительность права: «надлежащее установление (Gesetzheit), социальная действенность (Wirksamkeit) и правильность содержания (Richtigkeit). Тот, кто делает упор на правильность содержания и не придает значения надлежащему установлению и социальной действенности, получит в чистом виде естественно-правовое или разумно-правовое понятие права. К чисто позитивистскому понятию права придет тот, кто полностью исключит правильность содержания и подчеркнет значение исключительно надлежащего установления и/или социальной действенности. Между этими двумя крайностями располагается множество комбинаций из трех элементов»[282 - Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму). М., 2011. С. 15.].
В нормативизме действительность (или валидность) права понимается как юридическая сила формального источника права[283 - «Определенная норма действует юридически, если она издана компетентным органом в предусмотренном порядке, не противоречит высшему по рангу праву, иными словами, установлена надлежащим образом». – Там же. С. 108.]. В юс-натурализме – как моральная оправданность. При социологическом подходе действительность права предстает его действенностью, т. е.
фактическим воплощением в юридических практиках людей, в правопорядке, понимаемом как совокупность правоотношений и простых форм реализации права. В связи со сближением подходов к онтологии права, происходит признание взаимодополнительности трех аспектов действительности права. При этом сторонники как нормативизма (Г. Кельзен, Г. Харт), так и юснатурализма (Р. Алекси) полагают социальную действительность права условием и формально юридической, и морально-этической валидности[284 - Р. Алекси по этому поводу пишет: «В случае, когда система норм или отдельная норма абсолютно лишены социальной действительности, иными словами, им не присуща социальная действенность даже в малейшей степени, такая система норм или такая норма не может быть также юридически действительной. Следовательно, понятие правовой действительности обязательно включает в себя также элементы социальной действительности». – Там же. С. 107.].
На этом важном моменте следует остановиться несколько подробнее. Если законодатель принял нормативный правовой акт, полностью соответствующий формальным критериям и без нарушения процедуры его принятия, то его действительность с точки зрения нормативизма наступает с момента его вступления в юридическую силу. С соответствующего момента он – нормативный правовой акта – считается действующим, следовательно, действительным. Но вполне может оказаться так, что этот акт принят тоталитарной государственной властью и противоречит общепризнанным принципам естественного права. В таком случае он будет юридически действительным, но не будет считаться морально оправданным, «неправильным» (по терминологии Р. Алекси) или несправедливым. С другой стороны, если акт принят демократически избранным парламентом и с соблюдением всех демократических процедур, но по той или иной причине не будет фактически соблюдаться, исполняться или использоваться, то его следует признать формально юридически действительным, но не обладающим социальной действенностью. Это может быть связано с отсутствием финансирования, по причине отчуждения власти (даже демократически избранной) от населения или ошибками в законодательной технике.
Из трех вариантов действительности права приоритетным является именно социальный (или социологический), на что косвенно указал Р. Алекси. Дело в том, что «мертворожденные» законы не действуют фактически и потому не порождают правоотношения (шире – правопорядок в социологическим смысле слова). Только социальная действительность права дает возможность оценки действующего законодательства, системы права и, тем самым, формулировки критериев ее изменения, совершенствования. Естественно-правовой подход к действительности права сегодня невозможно эксплицировать в силу изменившихся социокультурных условий современного постиндустриального, мультикультурного общества. В условиях мультикультурного социума, свойственного подавляющему большинству современных обществ (независимо от того, проводится ли в них политика мультикультурализма), найти такие ситуации, по поводу которых был бы консенсус среди представителей разных культур, практически невозможно. Поэтому даже формула Г. Радбруха[285 - Вопиющая несовместимость закона со справедливостью дает основание для того, чтобы «закон как “неправильное право” должен уступить место справедливости». – Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С. 233–234.], в которой предлагается минимальный консенсус по поводу крайних форм, дающих основание для общественного согласия об их категорическом неприятии (например, массовые убийства, террористические акты, геноцид и т. п.), о чем уже шла речь выше, сегодня не работает, если достаточно многочисленные жители европейских государств, получающих в них пособия или находящиеся в статусе беженцев, дружно приветствовали события 11.09.2001. Однако даже если такой консенсус и возобладает, то по поводу оценки подавляющего большинства нормативных правовых актов она – их оценка – с точки зрения справедливости невозможна. С другой стороны, если нормативный правовой акт фактически многократно используется значительной частью населения и положительно оценивается – то это свидетельствует не только о социальной его действенности, но и о моральной поддержке со стороны населения, т. е. о легитимности. Таким образом, из трех видов валидности права предпочтительнее является социальная, включающая остальные два вида.
Близкую точку зрения высказывает Н.В. Варламова, демонстрируя тем самым движение в сторону социологического либертаризма. «Нормативность любого социального регулятора и права в том числе следует понимать как совокупность требований должного, обусловленных сущим, выводимых из сущего и легитимированных им. Любая социальная норма – это не просто требование должного, но и отражение социально типичного (“нормального”) сущего. /…/ Источник любой социальной нормы кроется в сущем: она выражает и закрепляет социально целесообразные модели поведения и устанавливается и (или) обеспечивается авторитетной инстанцией (фактически признаваемой таковой, даже если она считается трансцендентально)»[286 - Варламова Н. В. Нормативность права: проблемы интерпретации // Правовая коммуникация и правовые системы / Труды Института государства и права Российской академии наук. Под ред. Ю.Л. Шульженко, Н.В. Варламовой. № 4/2013. С. 78.]. Действительность правопорядка, обеспечивающая действительность отдельных норм права, полагает Н. В. Варламова, «фактически сводится к его действенности и легитимности как условию действенности…»[287 - Там же. С. 94.]. Предельное же основание действительности правопорядка, по ее мнению, предопределяет предельная санкция, введенная Г. Кельзеном. «Именно предельная санкция, понимаемая как выход за рамки данного нормативного порядка, разрушение его, и есть то, что в конечном счете обеспечивает обязательность установленного нормативного порядка. Она принадлежит миру сущего, демонстрируя взаимосвязь сущего и должного: требования должного установлены для обеспечения определенного состояния сущего, которое с тех или иных позиции легитимировано как должное»[288 - Там же. С. 101.].
Социальная действительность права включает в себя, с моей точки зрения, имманентный (внутренний) аспект, который состоит в многократном использовании соответствующего правила поведения в практиках широких слоев населения и его положительную оценку, а также трансцендентный аспект – это его (правила поведения) функциональная значимость. Этот момент именуется трансцендентым потому, что он выходит за рамки системы права и обнаруживается в метасистеме – обществе. Право – это элемент системы более высокого уровня. Именно в ней – метасистеме – и проявляется его назначение: обеспечить нормальное функционирование (в идеале – развитие) социума с помощью нормирования как раз тех общественных отношений, которые являются для него (для основных подсистем общества) конститутивными, т. е. таких, без которых экономика, политика и т. д. не могут эффективно функционировать. Таким образом, социальная действительность права – это его действенность, результативность, которая выражается в производимом правом общесоциальном эффекте правового регулирования, а косвенно проявляется в массовом использовании правоприменителем и населением соответствующих правил поведения и их (правил) легитимности.
Существование (т. е. действительность) права, с моей точки зрения, – это результат борьбы социальных групп за право юридической номинации – квалификации социальных ситуаций как юридически значимых. Такая «борьба за право» «юридической гегемонии» включает «первичный произвол» лица, обладающего социальным (включая в современном мире и формально-юридический) капиталом, конструирующий новый правовой институт. Затем эта инновация с помощью механизмов символической манипуляции общественным сознанием легитимируется среди широких народных масс, хабитуализируется (опривычивается) и начинает выдаваться за «естественный порядок вещей», т. е. происходит «амнезия происхождения» сконструированного элитой и референтной группой правового института. При этом принципиально важно, что инновация становится правовым институтом, если она функционально значима. Только благодаря определенной эффективности правило поведения будет легитимировано и начнет воспроизводиться широкими народными массами. Последнее как раз и является показателем действительности права.
В связи с тем, что право не существует «само по себе», т. е. нет «чистых» правовых явлений (ситуаций), норм и институтов, а все они одновременно выступают психическими, культурными, многие – экономическими, политическими и т. д. феноменами, система права обладает лишь относительной автономностью. Отнюдь не безличностный механизм производит правовую коммуникацию, квалифицируясоциальные ситуации на правомерные/противоправные. Это делают люди – носители правовых статусов. Поэтому на процесс и результат юридической квалификации влияют все социальные факторы в той или иной степени. Юридическая наука, очевидно, должна их учитывать для оценки и совершенствования законодательства. Социальные ситуации переводятся с помощью механизма бинарного кодирования на правомерные/ противоправные в разряд юридически значимых, Поэтому содержание и полноту социальных ситуаций, которые существуют как политические, экономические и т. д., означиваемых как правовые, юриспруденция не может не охватывать своим вниманием. Таким образом, юриспруденция не может ограничиваться изучением законодательства – догмы права, т. к. в таком случае невозможны его оценка и совершенствование. Политика права, следовательно, – необходимый аспект юридического знания, включающий не только обоснование необходимости правовой инновации, «кода юридического означивания», но и анализ действия права – реализации норм права практиками людей. Именно на этом настаивает аналитическая философия после «прагматического поворота», утверждающего, что значение права как знака или текста – это его использование в юридической практике конкретными людьми.
Ко всему прочему, обосновать систему (в т. ч. правовую) методами этой системы невозможно, как доказано теоремами К. Геделя и А. Тарского: это возможно только с позиций «метасистемы». Такой метасистемой для системы права выступает система социума, существующая как борьба различных социальных групп за право номинации, репрезентации социального мира, т. е. как политика.
Дискурсивная деятельность человека – носителя статуса субъекта права, включая статус правоприменителя, вступающего в правоотношения, конструирующего нормы права, а также соблюдающего, исполняющего и использующего информацию, сформулированную в нормах права, т. е. приводящего их в действие, и есть действительность системы права после «прагматического поворота». Тем самым социальная валидность права включает и нормативистскую и естественно-правовую: действенность господствующей социальной группы, формирующей в соотнесении с другими социальными силами нормы права и населения, воспроизводящего их своими ментальными и поведенческими актами, а тем самым легитимирующими нормы права, предполагает догматическую действительность права и его моральную оправданность.
Диалогичность права
Очерченные выше аспекты бытия права демонстрируют его внутреннюю диалогичность, которая проявляется во взаимообусловленности рассмотренных аспектов бытия права и, прежде всего, юридически значимого действия и правовой структуры как социального представления о юридически должном в механизме воспроизводства права. Диалог индивида и структуры проявляется в том, что в процессе индивидуальной социализации структура как выражение господствующей в данном социуме культуры (доминирующие социальные представления) обладает приоритетом над субъектом, формируя его. Правовая социализация (как и социализация вообще) – это диалог индивида и выбираемого им социально значимого Другого. Когда же процесс социализации завершен, то есть субъект в основном социализирован (хотя этот процесс длится всю жизнь), приобщен к господствующим нормам, ценностям, знаниям, он имеет возможность попытаться осуществить преобразование структуры. Инноватика – это также всегда диалог актора инновации и его окружения (аудитории), прежде всего, властных институций, представленных людьми – носителями соответствующего статуса. Для выдающихся индивидов такие попытки часто оказываются успешными (хотя их успех зависит от множества факторов, а не только от свойств личности реформатора). Так понимаемый диалог показывает возможность преодолеть («снять») антиномию человек – структура, индивидуализм – объективизм.
Человек, чтобы быть субъектом социальных (и правовых) отношений, должен соотносить свои ожидания и действия с аналогичными ожиданиями и действиями другого – контрсубъекта социальных взаимодействий. При этом другой – это всегда человек, выступающий носителем собственно личностных качеств, и одновременно социального (часто – и правого) статуса[289 - «Другость», утверждает П. Рикер, «расщепляется на другость межличностную и другость институциональную. На самом деле для философии диалога всегда соблазнительно ограничить себя только отношениями с другим, которые, как правило, развиваются под знаком диалога между “я” и “ты”… Казалось бы, только такие отношения заслуживают называться межличностными. Но этой встрече не достает отношения к третьему, которое кажется таким же изначальным и простым, как и отношение к “ты”. … На самом деле только отношение к третьему, располагающееся на заднем плане отношения к “ты”, обеспечивает основу для институционального опосредования, какого требует складывание реального субъекта права, иными словами – гражданина». – Рикер П. Справедливое. С. 34–35.]. Восприятие конкретной ситуации как юридически значимой предполагает ее типизацию (категоризацию, классификацию и квалификацию), а этот процесс содержательно диалогичен, так как предполагает соотнесение единичного (воспринимаемой ситуации) и типичного (типизированного образца – фрейма или скрипта). Одновременно такое соотнесение включает личностные факторы: интересы, мотивацию актора. Для юридической ситуации принципиально важно ожидание взаимообмена правами и обязанностями с контрсубъектом – другим, квалифицируемым как субъект права (носитель прав и обязанностей). Собственно, правовое поведение, как правомерное, так и противоправное, представляет собой диалог – взаимное соотнесение или корреспонденцию прав и обязанностей, или, по терминологии А.В. Полякова – правовую коммуникацию. Диалогичность права – это когда каждый участник правовых интеракций (правоотношений и простых форм реализации права) знает и ожидает адекватного поведения со стороны любого другого, а такие взаимодействия являются функционально значимыми – обеспечивающими нормальное воспроизводство социума[290 - Субъект, по мнению П. Рикера, формируется благодаря уверенности в обоюдной дееспособности. «Это признание такой же способности за другими агентами, вовлеченными так же, как и я, в разного рода взаимодействия, не обходится без опосредования правилами действия…». – Поль Рикер в Москве. М., 2013. С. 79.].
Диалог в праве – это, прежде всего, механизм формирования правовой инновации, включающий выработку нового образца поведения, признаваемого юридически значимым. Правовая инновация отличается от потестарной (по терминологии сторонников юридического либертаризма), именно тем, что ориентирована на признание широкими народными массами, а не выступает проявлением «агрессивного насилия»[291 - Только оценка со стороны референтной группы, формирующей общественное мнение, способна определить критерии «агрессивного насилия» и отграничить его от «легитимного насилия». Объективного критерия того, что во все времена и у всех народов следует считать «агрессивным насилием» не существует.] (термин В.А. Четвернина). Тем самым некоторым социальным образцам поведения приписывается юридическая значимость.
Диалог в праве – это также механизм воспроизводства принятого образца юридически значимого поведения постоянным подтверждением его значимости. Это происходит благодаря трансформации знаковой формы нормативности права в социальные правовые представления (о которых речь шла выше), стереотипы массового поведения и интериоризированные персональные смыслы и навыки (личностное, практическое или фоновое знание, по терминологии М. Полани и Г. Райла). В результате правовая инновация входит в правовую культуру и правопорядок (многократно повторяющиеся правоотношения и простые формы реализации права) как динамический аспект правовой реальности[292 - Институт – это «повторяющиеся между людьми обмены, или, что лучше, “взаимная типизация привычных действии” (если обратиться к языку Шюца, используемого Бергером и Лукманом)… Для Вебера, как и для Гуссерля, институты, и в первую очередь государство, суть не что иное как форма со-действия, совместного действия индивидов, чья деятельность ориентирована в зависимости от некой субстанции, трансцендентной по отношению к этой сети взаимодействия». – Мишель Ж. Смысл институтов // Поль Рикер в Москве. М., 2013. С. 317–318. Ср.: «Институт как регулирование распределения ролей, а, стало быть, как система, есть нечто гораздо большее и иное, нежели индивиды как носители ролей. [Но] институт… существует лишь постольку, поскольку индивиды принимают в нём участие». – Рикер П. Я – сам как другой. С. 239.]. В этом смысле правовой диалог – это отношения (взаимодействия, включающие соотнесение экспектаций) Я – Ты, опосредованное нормой права, правовым институтом[293 - Собственно, правовой институт – это полагание другого как каждого, любого, безличностного Другого как носителя правового статуса, с которым строит отношения Я.].
«Диалогизм, – утверждает П. де Ман, – функционирует как принцип радикальной другости (otherness), или, если…воспользоваться терминологией Бахтина, как принцип вненаходимости (exotopy)»[294 - Де Ман П. Диалог и диалогизм // Бахтинский сборник. Вып. 5 / Отв. Ред. В.Л. Махлин. М., 2004. С. 112.]. Отсюда можно сделать вывод, что содержанием правового диалога является легитимность. Признание другого как любого, каждого равноправного субъекта права – имманентный признак права, по мнению А.В. Полякова, С.И. Максимова и некоторых других современных авторов[295 - Справедливости ради следует заметить, что уже Г. Гегель, по крайней мере в йенском периоде своего творческого пути, полагал, что «признание рождается одновременно с отношениями права. Право есть обоюдное признание». – Рикер П. Путь признания: три очерка. М., 2010. С. 172.]. «Способность к признанию, – пишет известный украинский теоретик права, – является собственно правовой способностью, делающей право возможным. Акты признания – это особые интенциональные акты, выражающиеся в направленности на Другого, при этом он рассматривается как ценность вне зависимости от степени его достоинств, как ценность, заслуживающая гарантий зашиты со стороны права. Ценностно-значимый акт признания есть то, что конституирует «клеточку» права, представляет собой конститутивный момент правосознания»[296 - Максимов С.И. Концепция правовой реальности // Неклассическая философия права: вопросы и ответы / Под ред. А.В. Стовбы. Харьков, 2013. С. 54–55.]. При этом признание другого как носителя статуса правового статуса тождественно легитимности правового института, так как последний существует, о чем упоминалось выше, как правовое социальное представление и массовые юридически значимые практики.
Признание права можно вслед за А. Хоннетом рассматривать в качестве онтического основания правовой реальности, как и социальности как таковой. Это связано с тем, что, по мнению лидера Франкфуртской школы, языковое понимание, а значит, и коммуникация, «привязано к неэпистемической предпосылке признания Другого»[297 - Honneth A. Verdinglkhung. Eine anerkennungstheoretische Studie. Frankfurt am Main, 1995. S. 59.]. Более того, признание у А. Хоннета выступает дорефлексивной фундаментальной данностью, предшествующей любому взаимодействию[298 - Honneth A. Kampf und Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt am Main, 1992.].
«Но что означает признание права (правовых текстов)? – вопрошает А.В. Поляков. Это есть признание неких общих рамок поведения, т. е. определенных прав и обязанностей, связывающих всех членов общества; признание их “объективного”, независимого от индивидуальной воли лица, и социально значимого (ценностного) характера, понимание их содержания и порядка реализации, включая признание возможности наказания за несоблюдение таких правил. … Право легитимируется не только через виртуальные тексты первичных источников права и не только через политические тексты государственной власти, но и через актуальные тексты, создаваемые самой практикой реализации прав и обязанностей»[299 - Поляков А. В. Прощание с классикой, или как возможна коммуникативная теория права // Там же. С. 18.]. При этом А.В. Поляков полагает, что «социальная легитимация, … не может быть установлена через какие-либо количественные признаки (столько-то человек “за” закон). Она обнаруживается лишь эмпирически, как некая социальная энергия, дающая возможность субъектам публично и с осознанием своей правоты выступать носителями прав и обязанностей, а также отстаивать и защищать свои права (индивидуально или через социальные институты, включая государство)»[300 - Поляков А.В. Нормативность правовой коммуникации // Известия вузов. Правоведение. 2011. № 5.С. 35.]. В другой работе А.В. Поляков полагает, что легитимность права «может быть как эксплицитной (формальной), осуществляемой через соответствующую процедуру принятия закона, так и имплицитной (неформальной), основанной на соответствии закона внутренним скрытым условиям коммуникации, указывающим на ее аксиологическое измерение. Только этим и оправдывается сама возможность государственного принуждения к тем, кто нарушает правовые предписания. … Наличие легитимации можно проверить эмпирически: реальное, публичное и свободное использование субъектами своих прав и следование своим правовым обязанностям свидетельствует о минимально необходимой степени легитимации правовых текстов»[301 - Поляков А. В. Коммуникативный подход к праву как вариант постклассического правопонимания. С. 26.].
С близких позиций проблему легитимности права подробно обсуждает М. ван Хук в работе «Право как коммуникация». По его мнению, легитимация «правовой системы в целом может быть лишь разновидностью слабой легитимации, т. е. актуальным признанием правовой системы как факта, идентификацией ее как “правовой системы”. В этом смысле правовые системы получают среди других систем признание в качестве морально приемлемых даже без “сильной” легитимации. Легитимация в полном смысле может быть осуществлена только по отношению к частям правовой системы. Более того, различные типы (совокупности) правил и принципов будут требовать различных типов легитимации: моральной, политической, экономической и т. п. Некоторые будут требовать содержательную легитимацию, для других может оказаться вполне достаточно формальной легитимации»[302 - Ван Хук М. Право как коммуникация. СПб., 2012. С. 251.].
Под «легитимацией» бельгийский ученый понимает «нормативную действительность законов, признание за ними должной обязательности. Такая действительность более значима, чем социологическая действительность, заключающаяся в том, что законам следует большинство, и в том, что большинство согласно с данными законами, даже если это согласие является вынужденным. … Признание правовой системы или ее частей (правил, решений суда) субъектами права оказывается шире, чем просто моральное признание. Нам следует рассматривать это в более широкой перспективе социального признания. Чтобы быть широко признанным в обществе, содержание закона или судебного решения должно соответствовать минимальным нравственным стандартам, превалирующим в данном обществе. Однако такое признание зависит не только от морального аспекта. Оно связано с целым комплексом моральных, социологических и прагматических решений. Нравственно нейтральные формы и процедуры вполне могут оказаться решающими в этом вопросе»[303 - Там же. С. 254–255.].
Проблема, отчасти парадоксальность легитимации права состоит в том, что принятие права – это психический процесс, до конца не проясненный современной наукой. Общественное мнение, как четкие представления не просто о желаемом, а о рецептах достижения желаемого, должного – справедливо указал П. Бурдье в начале 70-х гг. ХХ в. – не существует[304 - См.: Бурдье П. Общественное мнение не существует // Социальное пространство: поля и практики. – М., СПб., 2005.]. Оно формируется элитой, обладающей (часто – узурпировавшей) правом на официальную номинацию социальных явлений и процессов (в том числе, и правовую квалификацию) и референтной группой, а поэтому ситуативно, подвержено манипулируемости со стороны власть имущих. Не случайно П. Рикер пишет: «Формы согласия следует описывать в связи с поддерживающим их одобрением: от чьего имени каждый раз атрибутируется значимость? И по завершении какого квалификационного испытания она считается легитимной?»[305 - Рикер П. Путь признания. С. 195.].
Легитимность – согласимся – парадоксальное явление[306 - О парадоксе(ах) авторитета см.: Рикер П. Справедливое. С. 207 и след.]. Парадоксами легитимности являются: недоверие к власти и одновременно необходимость власти[307 - М. Фуко утверждал, что власть не только подавляет и угнетает, но и способна созидать. Сообразуясь с системой знания, власть как «микрофизическое явление» проникает в ткань общественных отношений и обеспечивает воспроизводство социальной реальности. – Foucault M. Dispositive der Macht. Berlin, 1978.]; отсутствие соотнесенности принятия системы права и отдельных норм права[308 - О различии действительности норм в рамках данного правопорядка и действительности самого правопорядка, которая фактически сводится к его действенности и легитимности как условию действенности пишет Н.В. Варламова. – Варламова Н.В. Нормативность права: проблемы интерпретации. С. 94.]; необходимость постоянного выход за рамки легитимного правопорядка для его совершенствования: для легитимности права потребно недоверие к нему. Признание другого как равноправного субъекта права (носителя статуса) обусловлено психическими стереотипами межличностного восприятия, предубеждениями, в том числе, приписыванием отрицательных свойств любому представителю другой социальной группы[309 - Самопризнание и взаимное признание, – пишет П. Рикер, – всегда остается незавершенным и наиболее уязвимым по причине «постоянно сохраняющейся асимметрии отношения к другому по модели помощи, а также и наличия реальных препятствии». – Рикер П. Путь признания: три очерка. М., 2010. С. 71. В то же время взаимность возможна только при наличии асимметрии «я – другой». – Там же. С. 148.]. Другой в традиционном мышлении – это, как правило, чужой. Для преодоления такого положения дел как раз и необходим диалог как политика толерантности, признание другого равноправным мне и любому Другому. Эта проблема усугубляется сложной структурированностью, высокой социальной мобильностью и фрагментарностью, мультикультурностью современного социума. При фрагментаризации референтности как таковой и референтных групп ставится под вопрос принятие всеми единого для данного социума правопорядка. Существует ли таковой или следует говорить о множественности правопорядков? Признание другого предполагает необходимость учета (а значит – четкой идентификации) социального (и правового) статуса контрсубъекта, а также единство «когнитивной базы» – неких общих представлений об устройстве мира и положения в нем человека (В.В. Красных).
Институты, утверждает П. Рикер, легитимируются дискурсами и текстами, а эти последние производятся, высказываются и публикуются институтами, жаждущими легитимации[310 - Рикер П. Справедливое. С. 209.]. Отсюда возникаетеще один парадокс легитимности – парадокс представительства – самоосвящения представителя, действующего, якобы, от имени представляемого. Парадоксальность представительства состоит в том, что доверенное лицо обретает власть над передавшим ему свои полномочия[311 - Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм // Социология политики. М., 1993. С. 233.]. Это связано с тем, что группа образует себя как раз с помощью делегирования, наделяя мандатом выступать от своего имени какого-либо индивида. В результате возникает отношение метонимии: доверенное лицо превращается в часть группы, которая может функционировать как знак вместо целой группы. «Обозначающее – это не только тот, кто выражает и представляет обозначаемую группу; это тот, благодаря кому группа узнает, что она существует, тот, кто обладает способностью, мобилизуя обозначаемую им группу, обеспечивать ей внешнее существование»[312 - Там же. С. 239.].
Особое значение проблема представительства приобретает в эпоху глобальных проблем современности, когда происходит рост некомпетентности масс вследствие дифференциации знания. Может ли народ давать компетентные наказы своим избирателям или хотя бы компетентно их контролировать, если признать преимущества свободного мандата над императивным? Сомнительность положительного ответа вытекает как раз из растущей некомпетентности большинства и манипулируемости общественным мнением[313 - О манипулируемости общественным мнением см.: Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. М., 1997.]. Проблема представительства усугубляется также тем, что, как доказал К. Арроу, с одной стороны, результат голосования – единственного способа обеспечить представительство – прямо зависит от процедуры его проведения, а, с другой стороны, не существует правила коллективного выбора, удовлетворяющего принципам демократии[314 - Arrow K. Social Choice and Individual Values. N.Y., 1951.].
Легитимность права, следует согласиться с А.В. Поляковым, достаточно сложно измерить. Границы легитимности условны и изменчивы; они простираются от полного доверия до критического отношения к соответствующему институту права. Механизм воспроизводства (как инновационного, так и традиционного) легитимности права – дискурсивные практики социальных групп в борьбе за право официальной номинации социальных явлений, в том числе, юридической квалификации. Именно победитель с помощью символической власти номинации «убеждает» население в легитимности соответствующей картины мира, правовой реальности. До тех пор, пока широкие массы населения не выступают открыто против такой картины мира – в данном социуме имеет место легитимность как содержание диалогичности.
Подводя некоторый итог, можно утверждать, что диалог в праве – это универсальная абстракция, необходимая для уважительного отношения к Другому, это отказ от привилегии собственной точки зрения, от доминирования или «агрессивного насилия». В то же время правовой диалог – это артикуляция различий в рамках «продуктивной коммунальности», а не утопия всеобщей дружбы или любви. Диалог в праве – это признание необходимости Другого (или «другости», по терминологии П. Рикера) как условие выживания всех.
Обладает ли диалогическая онтология права эвристической ценностью, или это не более чем другое обозначение коммуникативной теории, как полагает А.В. Поляков? В частности, он пишет: «…диалог…есть все та же коммуникация и переименование коммуникации в диалог ничего нового для понимания этого явления не дает. He добавляет ясности и принципиальное положение автора о том, что право – это не любой диалог, а только такой, “который обеспечивает нормальное функционирование социума”. Здесь неожиданным образом в понятие права вмешивается нормативное долженствование в духе классического юснатурализма»[315 - Поляков А. В. Право: между прошлым и будущим // Известия вузов. Правоведение. 2013. № 3. С. 9. Я благодарен А.В. Полякову за конструктивную критику моей позиции: без таковой невозможно ее уточнение и дальнейшее развитие.].
Во-первых, и коммуникативная, и диалогическая теории – это применение соответствующих социально-философских концепций к исследованию права. Такой подход, связанный с выходом юриспруденции в междисциплинарную область, позволяет по-новому взглянуть на традиционную проблематику юридической науки и открыть новые пласты, аспекты потенциально «неисчерпаемого» (как неисчерпаем, по мнению физики, электрон и, а с позиций социальной философии – человек, политика или экономика) явления – права. То, что диалогизм близок коммуникации или наоборот, отрицать бессмысленно. Поэтому в принципе эти подходы можно считать как «комплементарными». Но не любая коммуникация является одновременно диалогом, поэтому полной синонимии между этими понятиями и тождества между концепциями нет (хотя близость, несомненно, повторюсь, присутствует). Содержанием правовой коммуникации, как ее понимает А.В. Поляков, как раз и является диалог, предполагающий принятие позиции Другого, соотнесение экпектаций участников интеракции[316 - Не случайно Ю. Хабермас утверждает, что право стабилизирует ожидания от тех или иных действий и «тем самым выполняет свою собственную функцию». – Хабермас Ю. Расколотый Запад. М., 2008. С. 120.]. Это не просто «условие коммуникации», как пишет А.В. Поляков, а содержание правовой коммуникации, которая выступает формой диалога. Полагать, что «это обстоятельство давно уже выяснено в современной науке»[317 - Там же.], на мой взгляд, некоторое преувеличение: современная наука пока еще очень далека от выяснения того, как и почему в одних случаях диалог (или коммуникация) протекает нормально и достигает желаемого результата, в других – нет. Измерение принятия точки зрения Другого или взаимного признания субъектов правовой коммуникации как некой «социальной энергии, дающей возможность субъектам публично и с осознанием своей правоты выступать носителями прав и обязанностей, а также отстаивать и защищать свои права» (по А.В. Полякову) выглядит достаточно туманно (что это за энергия, каковы критерии «осознанности правоты» и т. д.), что не означает бесперспективности и необходимости продолжения попыток такого измерения.
По мнению А.В. Полякова, «туманность» моей интерпретации диалога состоит в том, что «диалог – это взаимообусловленность, взаимодополнение и взаимопереход каких-то явлений: материального и идеального, должного и сущего и т. д. Данная трактовка диалога ничем не отличается от смысла тех явлений, через которые его описывают, – взаимообусловленности, взаимодополнения, взаимодействие, взаимозависимости. Такого рода «диалоги» можно найти в природе, в сфере материального существования каких-то внешних объектов. Если есть, например, взаимообусловленность движения по орбите Земли и Луны, то можно сказать, что эти небесные тела ведут между собой “диалог”. … При этом уточняется, что взаимодействие может быть названо диалогом только в том случае, если интеракции происходит принятие точки зрения другого, кем бы этот другой ни был. Здесь уже возникает другая концепция диалога, не стыкующаяся с первой. Ведь ни “материальное”, ни “идеальное” людьми не являются»[318 - Поляков А. В. Право: между прошлым и будущим. – С. 8–9.]. Диалог, конечно, возможен только в социальных явлениях и процессах, включающих психическую их сторону, то есть, внутренний диалог. Однако специфика социального состоит в овеществлении (реификации или объективации, иногда – натурализации) отношений между людьми: последние приобретают в общественном сознании вид или форму природных, объективных феноменов. Поэтому социальная философия, а вслед за ней и все социальные науки, используют (по крайней мере, использовали до сих пор) такие натуралистические выражения, как «материальное», «идеальное», «должное», «сущее» и т. д. Как раз диалогическая методология призвана показать, что за этими реифицирующими понятиями скрываются взаимодействия (ментальные и поведенческие) между людьми. Когда единичное начинает многократно воспроизводится (повторяться), то оно превращается в сознании людей в типичное, обеспечивающее нормативность и социализацию жизненного мира. Собственно, внутренний диалог и есть соотнесение себя (личностной интенции) с этим типичным; это и есть принятие точки зрения Другого. Другими словами, материальное, идеальное, должное, сущее и т. д. существуют только в знаковой форме и практиках людей. Взаимообусловленность, взаимодополнения, взаимодействие, взаимозависимости – это понятия, призванные показать, что одна сторона или аспект не существует без другой и как именно эти противоположные стороны сосуществуют. Тем самым проясняется механизм воспроизводства правовой реальности, содержанием которого и выступает, с моей точки зрения, диалог. Странно, что это вызывает некоторое недопонимание.
Диалогическая онтология права, используя социально-философскую концепцию диалогизма, акцентирует внимание на внутреннем диалоге как предпосылке успешности правовой коммуникации, на психических (психологических) и лингвистических механизмах достижения консенсуса в обществе, на дискурсивности юридических практик, на механизмах правовой социализации и идентичности, на предвосхищении собственного поведения, ожиданиях поведения от «обобщенного Другого». Эти и другие проблемы – субъекта ответственного поведения, общественного консенсуса и договора, взаимопонимания и т. д. – были сформулированы и получили теоретическое осмысление (хотя и, конечно, никак не окончательное решение, что невозможно в принципе) именно в диалогической философии П. Рикера, Г.-Г. Гадамера, В.С. Библера, а не коммуникативной.
По большому счету, на мой взгляд, не так уж и важно, как именовать исследования, например, Ю. Хабермаса или Ю. М. Лотмана – коммуникативными или диалогическими. В них можно обнаружить и то, и другое, тем более, что граница между этими направлениями философской и научной мысли весьма относительная. Важно не название, а новаторство результата исследования, полученного в рамках любого направления.
По поводу же непроясненности трансцендентного критерия диалога[319 - Трансцендентальный критерий права – с моей точки зрения – это не просто «сопротивление структуры», понимаемое как ограничения, налагаемые на конструктивистскую активность человека, и не «нормативное долженствование в духе классического юснатурализма», но «социальные условия жизнеобеспечения существования человечества». – Harre R. Social Being. 2-nd end. Oxford, 1993.] (это во-вторых) замечу, о чем уже шла речь выше, что без нормального воспроизводства социума, без минимума функциональности, то есть, легитимности и эффективности права, в условиях социальной аномии (это и есть показатель функциональности права) никакая коммуникация или диалог невозможны. Трансцендентная универсальность права – это абстракция самого высокого порядка как априорные условия возможности существования человека, общества, права. Наполнить ее конкретным содержанием можно только в соответствующем историческом и социокультурном контексте. Доказательность этого критерия – условия – диалогичности права методом «от противного» (если общество существует, то в нем не могут не быть нормы, которые обеспечивают это существование) ничуть не хуже положения А.В. Полякова по поводу наличия легитимации, которую «можно проверить эмпирически: реальное, публичное и свободное использование субъектами своих прав и следование своим правовым обязанностям свидетельствует о минимально необходимой степени легитимации правовых текстов».
Таким образом, с моей точки зрения, диалогическая и коммуникативная программы онтологии права взаимопересекаются и у них гораздо больше общего, чем принципиальных противоречий.
Правопонимание в контексте постклассической онтологии
М.В. Ульмер-Байтеева
В связи с вышесказанным можно сформулировать онтологический принцип релятивизма права: право – это социальное явление, обусловленное взаимодействиями с другими социальными феноменами, вне и без которых право не существует, и с обществом как социальными представлениями (по терминологии С. Московичи), воспроизводимыми практиками широких слоев населения, и объединяющими людей на определенной территории. Отсюда напрашивается тезис, который может показаться эпатирующим: нет «чистых» правовых явлений, как нет и не может быть «чистой системы права» Г. Кельзена. Право, как и любой социальный институт, не имеет единственного и единого референта – оно многогранно, многоаспектно, и существует в социальном мире в виде взаимодействий людей, опосредованных социальными (интериоризируемыми в индивидуальные) представлениями, объективированными знаковыми формами, например, нормативными правовыми актами. В этих интеракциях всегда сосуществуют психика (психические феномены), культура, язык, часто – экономика, политика и т. п. Выделить юридический момент, например, в договоре купли-продажи, перевозки или в голосовании на избирательном участке, в подаче жалобы и т. д. можно только аналитически. Таким образом, нет правовых явлений (законов, индивидуальных актов, правоотношений), которые одновременно не были бы психическими (как писал в свое время Л.И. Петражицкий), экономическими, политическими и т. д. – в широком смысле – социокультурными феноменами.
Эту релятивность права применительно к таким нейтральным, казалось бы, для права явлениям, как пол, раса, вероисповедание, политическая принадлежность и др. эмпирически доказали в 20–30 гг. ХХ в. «реалисты США» (К. Ллевеллин, О. Холмс, Д. Фрэнк и др.). Они показали, что даже пол, не говоря о расе, среднестатистически влияет на выносимое судьей решение (если подсудимый либо мужчина, либо женщина, либо белый, либо афроамериканец).
Как уже утверждалось выше, обосновать «чистую систему права» – универсальную, непротиворечивую, завершенную, замкнутую, отделенную от «грязи» политики, экономики, от мира сущего – невозможно по нескольким соображениям. Во-первых, это противоречит второму закону термодинамики: в мире не существует замкнутых систем, т. к. в них самовозрастает энтропия и они неизбежно саморазрушаются. Поэтому реально существующие жизнеспособные системы – открытые, обменивающиеся веществом и энергией со средой. Во-вторых, ограничительные теоремы К. Геделя, о чем уже упоминалось, доказывают, что не существует одновременно непротиворечивых и замкнутых (завершенных или полных) систем. Чтобы логически обосновать систему, необходимо иметь исходную аксиому, например, основную норму, с позиций которой можно говорить о юридической валидности конституции, законодательства и других форм права. Однако если исходная аксиома – основная норма Г. Кельзена (содержание которой по Г. Кельзену абсолютно нейтрально)[261 - На этом настаивает Р. Алекси. – Алекси Р. Понятие и действительность права. Ответ юридическому позитивизму. М., 2011. С. 129.] или норма-признание Г. Харта не имеет содержательного определения, то как можно быть уверенным в том, что конституция (например, Сталинская Конституция 1936 г.) является логически и юридически обоснованной[262 - В конце жизни Г. Кельзен утверждал: «Моя основная норма – это фиктивная норма которая предполагает фиктивный акт волеизъявления, устанавливающий данную норму. Это – фикция о том, что некий властный орган хочет, что нечто должно быть так, a не иначе». Позже Кельзен уточнит: «Предположение об основной норме не только противоречит реальности – поскольку такая норма не только не может существовать как значение некоего акта воли, но и содержит противоречие сама в себе: она представляет собой акт управомочивания некоей высшей морали или некоей правовой власти, и этот акт исходит от некоей другой власти, которая носит полностью надуманный характер» – Kelsen H. The Function of Constitution // Еssays on Kelsen. Oxford, 1986. p. 117. – Цит. по: Антонов М.В. Чистое учение о праве против естественного права? // Ганс Кельзен: чистое учение о праве, справедливость и естественное право. С. 95.]?
Не спасает основную норму и позиция сторонников теории естественного права, например, Р. Алекси, изложенная им в книге «Понятие и действительность права». Полагая, что между правом и моралью существует необходимая связь, он пишет: основная норма не может быть обоснована другой нормой, но может быть оправдана принципами морали[263 - Там же. С. 142.]. Однако принцип релятивизма не дает возможности признать правоту Р. Алекси и других сторонников юснатурализма. Это связано с тем, что такие исходные принципы морали, как свобода, справедливость, добрые нравы и др. принципиально по-разному трактуются в разные исторические эпохи и в разных культурах. Так, А. Вежбицка – лингвист с мировым именем – доказывает, что свобода (а право – это мера свободы практически при любом типе правопонимания) для западного европейца – это благо, выражающее возможность совершения действия, ограниченная свободой другого. Для славянина (поляка или русского) – это «вольность», вседозволенность, «перешагивание границ» (хотя скорее тоже благо). А для японца свобода – это антиценность, т. к. наделена значением противопоставления себя коллективу[264 - Wierzbicka A. Understanding Cultures trough their Key Words: English, Russian, Polish, German, Japanese. – New York, 1997.]. О невозможности рационального выбора между различными моральными ценностями писал А. Макинтайр, для которого понятия справедливости, морали, права следует признать релятивными по отношению к конкретной традиции. Поэтому с его точки зрения не существует теоретически нейтральной, дотеоретической основы, позволяющей рассудить спор конкурирующих мнений[265 - MacIntyre. Three Rival Versions of Moral Inquiry: Encyclopaedia, Genealogy and Tradition. L., 1990 P. 172–173.]. Эта проблема в политологии с легкой руки У. Гэлли еще в 1955 г. получила наименование «сущностной оспариваемости» («essential contestability») таких понятий, как справедливость, свобода, демократия в силу их принципиальной многозначности, комплексности, ценностной природы критериев определения. Такого рода понятия, писал Гэлли, не имеют приоритета друг перед другом, поэтому каждая точка зрения может быть теоретически обоснована и оспорена. Более того, установить эмпирическим путем адекватность этих принципиально разных позиций невозможно. Поэтому спор между ними в принципе неразрешим[266 - Gallie W.B. Essentially Contested Concept // Proceedings of the Aristotelian Society. Vol. 56. 1955.]. Р. Дворкин в этой связи заявляет, что у принципов права и судебных решений нет прямой связи[267 - Дворкин Р. О правах всерьез. М., 2004., С. 71.], а неопределенность стандартов, лежащих в основе Конституции, неизбежно вызывает разногласия при их использовании «разумными людьми доброй воли»[268 - Дворкин Р. Указ. Соч., С. 188.]. Поэтому «слово “права” в разных контекстах имеет разную силу»[269 - Там же. С. 257.]. Известный антрополог Р. Д’Андрад утверждает, что между конститутивными нормами (культурными институциями, которые можно считать принципами права) и регулятивными нормами нет связи, подчиняющейся законам логики: многие конститутивные правила могут быть связаны с совершенно разными нормами, относящимися к разным субкультурам[270 - D’Andrade R.G. Cultural Meaning Systems // Shweder R.A., LeVine R.A. (eds.) Cultural Theory. Essays on Mind, Self and Emotion. Cambridge, L., N.Y., New Rochelle, Melbourne, Sydney. 1984. P. 91–93.].
Для обоснования универсальности права, его единого, всеобщего критерия, невозможно использовать «формулу Радбруха», на чем настаивают сторонники юснатурализма. Закон превращается в «неправо» тогда, «когда действующий закон становится столь вопиюще несовместимым со справедливостью, что закон как “несправедливое право” отрицает справедливость»[271 - Радбрух Г. Философия права. М., 2004, С.234.]. Эта формула (которая в интерпретации юридического либертаризма звучит как «запрет на агрессивное насилие») может быть использована в социуме, в котором имеется моральный консенсус по вопросу «нетерпимых нарушений» прав человека. Но даже в таком случае она непригодна для оценки с моральной точки зрения большинства нормативных правовых актов, т. к. они в большинстве случаев являются морально нейтральными. Если даже такое знаковое событие, как разрушение Башен-близнецов в Нью-Йорке 11.09.2001, одними воспринималось как тяжелейшая трагедия, а другими (жителями европейских государств – выходцами из стран мусульманского мира, получающих социальные пособия) как торжество справедливости, то о каком моральном консенсусе может идти речь?
Релятивность права (точнее – законодательства) не дает возможность сформулировать универсальные содержательные критерии, например, уголовно-правовых запретов. Я.И. Гилинский в этой связи справедливо замечает: «В реальной действительности нет объекта, который был бы «преступностью» (или «преступлением») по своим внутренним, имманентным свойствам, sui generis, per se. Преступление и преступность – понятия релятивные (относительные), конвенциональные («договорные»: как «договорятся» законодатели), они суть социальные конструкты, лишь отчасти отражающие отдельные социальные реалии: некоторые люди убивают других, некоторые завладевают вещами других, некоторые обманывают других и т. п. Но ведь те же самые по содержанию действия могут не признаваться преступлениями: убийство врага на войне, убийство по приговору (смертная казнь), завладение вещами другого по решению суда, обман государством своих граждан и т. п.»[272 - Гилинский Я. И. Указ. Соч., С. 37.].
Признавая справедливость идей, сформулированных известным криминологoм, в то же время замечу, что без уголовного запрета, например, убийства, ни одно общество не в состоянии существовать. Поэтому в любом социуме есть те нормы, которые обеспечивают его воспроизводство. Это конститутивные для экономики, политики и других интеракций, из которых складывается общность людей, нормы, без которых эти общественные отношения (интеракции и их ментальные образы) не смогут нормально функционировать. Например, без закрепления права частной собственности невозможна нормальная рыночная экономика; без нормы, устанавливающей правила проведения свободных выборов невозможна демократическая политическая система; а без запрета убийств в какой-либо форме (хотя бы обычаем кровной мести) ни один социум не в состоянии выжить. Проблема их выявления – одна из насущных для теории права. Сегодня невозможно сформулировать универсальные содержательные критерии их экспликации, тем более, что наука не в состоянии описать и объяснить объект исследования полностью, целиком, аподиктично. Но это не означает, что их нет. Для их обнаружения требуется социолого-правовое исследование данного конкретного социума, призванное зафиксировать, в т. ч. «качественными методами», широко распространенные, многократно используемые и положительно оцениваемые нормы (правила) и практики их использования в повседневной жизнедеятельности как правоприменителями, так и обывателями, их легитимность и эффективность.
Таким образом, принцип релятивизма применительно к праву означает содержательный антиуниверсализм, а также исторический и социокультурный контекстуализм при допустимости абстрактной универсальности права.
Антиуниверсализм – это отказ от претензий юридической науки на поиск окончательных ответов на вопрос о сущности права. Нет единого права (сущности права) для всех времен и народов. Контекстуализм права – взаимообусловленность его историей, культурой-цивилизацией: восприятием права элитой и населением (отсюда проблема транзита правовых институтов).
Вышесказанное не означает, что релятивность права – это произвол и анархия[273 - Интересно, что М.М. Бахтин в начале ХХ в. определял релятивизм как механизм (средство) преодоления общего кризиса культуры – разрыва между «объективной» культурой и реально живущим человеком, между «смыслами» культуры и мотивами творческих поступков, направленных на развитие этих «смыслов». – Гоготишвили Л.А. Варианты и инварианты М.М. Бахтина. С. 121.]. Как отмечалось выше, релятивность права – это зависимость и обусловленность права обществом. С точки зрения диалектической социологии права, право, как и любой другой социальный институт, выполняет социальную функцию: обеспечивает нормальное функционирование социума (как минимум – самосохранение, как максимум – процветание, желаемый большинством населения уровень развития)[274 - Интересно, что эту же идею провозглашают такие разные теоретики, как Г. Харт и Л. Фуллер. «Минимум естественного права» Г. Харта, по сути, есть проявление «естественного закона» – стремление всех живых существ к выживанию, самосохранению. «Чтобы поднять … вопрос о том, как люди должны жить вместе, мы должны исходить из того, что их целью в общем-то и является жить». – Харт Г. Понятие права. СПб., 2007. С. 194. Л. Фуллер полагал, что выживание составляет цель всех человеческих устремлений, а «поддержание коммуникации». – Фуллер Л. Мораль права. М., 2007. С. 221. Замечу, что для поддержания коммуникации необходимо «трансцендентное» условие – наличие социума. Поэтому обеспечение его самосохранения является более фундаментальным принципом, по сравнению с поддержанием коммуникации.]. Право это делает с помощью нормирования наиболее значимых общественных отношений; экономика – производством и распределением материальных благ; политика – принятие политических решений и т. д. В этом как раз и состоит сущность права, минимум его универсальности. Почему минимум – потому, что содержательно – это «голая абстракция», наполняемая конкретным содержанием в различные исторические эпохи и в разных культурах-цивилизациях. Конкретное содержание права как раз и задается контекстом исторической эпохи и культуры-цивилизации.
Таким образом, универсальное в праве – это его социальное назначение. У всех народов и во все времена существовали и существуют конститутивные для соответствующего социума нормы. Они-то и должны, с моей точки зрения, именоваться правом. Другими словами, правовыми, с этой точки зрения, могут быть названы только такие нормы, закрепленные в соответствующих формах (источниках), которые объективно являются функционально значимыми – обеспечивают как минимум выживание, а как максимум – достижение желаемого уровня функционирования социума, а сегодня – человечества. Так, ни одно общество не может обойтись без уголовно-правовых запретов убийства, кражи, грабежа и других преступлений mala in se[275 - При этом не важно, в какой форме эти нормы закрепляются – законодательства, религиозных максим, обычаев и т. д. Важно, что без них в обществе восторжествует анархия, и оно прекратит свое существование.], хотя их конкретное закрепление (формулировка) значительно отличается в разные исторические эпохи и в разных культурах-цивилизациях. Для нормального функционирования рыночной экономики необходимыми – конститутивными – являются конституционные и гражданско-правовые нормы, закрепляющие право частной собственности, альтернативность форм собственности, добровольность заключения договоров, запрет на монополию и др. Для демократической политической системы невозможно обойтись без норм, регулирующих свободные и регулярно проводимые выборы, свободу средств массовой информации, многопартийность и др. Конечно, выявить функциональную значимость отдельных норм достаточно проблематично, тем более, что многие нормативные правовые акты занимают «нейтральное» положение по отношению к сформулированному критерию[276 - Так, «нейтральными» можно считать многие процессуальные или организационные нормативные правовые акты, закрепляющие процедуры и структуру органов государственной власти, для которых важно само по себе единообразие порядка деятельности. Не так важно, по какой стороне должен двигаться автотранспорт – по правой или как в Англии или Японии по левой. Важно, чтобы движение было по одной стороне, что и является функционально значимым для дорожного движения. В противном случае дорожное движение превращается в одну большую пробку, что можно наблюдать сегодня в крупных городах России.]. Но можно выявить «неправовые» нормы (точнее – статьи нормативных правовых актов), например, по таким косвенным признакам, как распространенность, многократное использование и положительная оценка. Если правило поведения по какой-то причине не распространено среди широких слоев общества, не используется (применяется) правоприменителем и/или населением и отрицательно оценивается общественным правосознанием – то такая статья нормативного правового акта или целый нормативный правовой акт не обладает функциональной значимостью и не может считаться нормой права[277 - В институционализме, пишут В.А. Четвернин и А.В. Яковлев, правовой институт – это «формализованные и неформализованные правила, которым реально подчиняется социальная деятельность, а модели, которым не соответствует социальная практика, институтами не признаются…. С точки зрения либертаризма, институт является правовым, если соответствует принципу права, выполняет правовую функцию, причем нормы этого института, как правовые нормы, существуют даже тогда, когда они не отражены в официальных прескриптивных текстах». – Четвернин В.А., Яковлев А.В. Институциональная теория и юридический либертаризм // Ежегодник либертарно-юридической теории. Вып. 2. 2009. С. 225.].
Функциональное назначение права, с моей точки зрения, состоит как раз в том, чтобы нормировать (устанавливать рамки, границы) те взаимодействия между людьми, носителями социальных статусов, которые являются наиболее важными, жизненно необходимыми. Взаимность признания прав и обязанностей – сущностный признак права для А.В. Полякова – может быть таковым, если взаимное признание не приводит к социальной или экологической катастрофе, в противном случае некому будет признавать друг друга и вступать в правовые коммуникации[278 - Можно ли полагать сущностью, назначением права взаимное признание прав и обязанностей? А для чего, собственно, это необходимо? Как минимум, для удовлетворения человеческих потребностей. Но потребности будут удовлетворены только в том случае, если механизмы и условия их удовлетворения будут воспроизводится снова и снова, т. е. будет обеспечено нормальное функционирование общества.]. В так понимаемой функциональной значимость права, с моей точки зрения, коренится трансцендентный[279 - Почему трансцендентный? Потому, что он находится за пределами права – в обществе.], сущностный признак права, отличающий право от других социальных норм. Очевидно, что взаимное признание правил этикета не относится к праву, хотя взаимности в них ничуть не меньше, чем в реализации многих нормативных правовых актов. Но их нарушение не приведет к деградации, аномии в обществе, а вот отсутствие норм (образцов поведения, реализуемых в практиках) рыночной конкуренции или свободных выборов приводит к деградации рыночной экономики-и демократической политической системы. Поэтому не все социальные нормы объективно выполняют функцию социальной интеграции, как полагает, например, Н.В. Варламова, а только некоторые – которые и стоит именовать правовыми.
Очевидно, что правящая элита и референтные группы, формулируя правовые инновации, не обладают полным знанием о «непреднамеренных последствиях», которые всегда вероятностны при более или менее широкомасштабных реформах законодательства. Ко всему прочему они всегда преследуют и собственные цели, не совпадающие (хотя бы отчасти) с интересами населения. Но при всем этом, субъекты законотворчества не могут не учитывать трансцендентный критерий права – его функциональную значимость. В противном случае может статься так, что управлять будет некем и нечем. При отсутствие универсальных, объективных критериев научной аподиктичности основание для отнесения закона к правовому всегда вероятностное[280 - Только позиция «Божественного наблюдателя» (по терминологии Х. Патнема) может определить, какие сегодня нормы являются «истинно правовыми». Невозможность дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, что такое право, не означает, «что его нет», как утверждает А.В. Поляков. – Поляков А.В. Право: между прошлым и будущим. Предисловие главного редактора // Известия вузов. Правоведение. 2013. № 3. С. 9. Ведь он сам справедливо пишет в своих замечательных работах, что право – многомерное явление. Если ко всему прочему признавать, что человеческий разум (даже научный) ограничен, что электрон по своим признакам неисчерпаем и не может быть описан одним единственным способом, т. е. аподиктично, то что уж говорить о праве! Но невозможность полного, объективного его описания не означает невозможность конструировать те нормы, которые выполняют минимальную функциональную значимость. Финикийцы не знали законов астрономии и физики, но это не мешало им благополучно бороздить просторы Средиземного моря. Кроме того, концепт «личностного знания» М. Полани или «фонового знания» Г. Райла акцентирует внимание на процессуальности, использовании знания в условиях всегда ограниченного и неполного «знания что?». Успешность действия не всегда предполагает знание правил его совершения, утверждал М. Полани. Поэтому отсутствие аподиктического знания о праве, постоянная возможность его уточнения, углубления и изменения не дает основание для утверждения, что мы не можем упорядочивать свою жизнь на основе того, что именуем правом.]. Поэтому приходится довольствоваться малым: утверждением, что правом является то, что сегодня (хотя завтра все может кардинально измениться) господствующими социальными группами, обладающими реальной возможностью навязывать свое мнение населению, признается таковым. Другими словами, право – это достигнутый в результате диалогических дискурсивных практик (если мы живем в демократическом обществе)[281 - Такими практиками, например, можно считать процедуры делиберативной демократии, развиваемой Ю. Хабермасом или более реалистичные правила со-общественной демократии, разработанные для многосоставных обществ А. Лейпхартом.] компромисс по поводу того, какие социальные явления и процессы считать правовыми, какое поведение считать должным, если при этом не обнаруживается дисункциональность социума (в противном случае все теоретические и практические рассуждения на тему коммуникативности или диалогичности права, права как справедливости и т. д. окажутся никому не нужными).
Социокультурный контекстуализм права привлекает внимание к проблеме действительности права как его действенности. Действительность права – одна из важнейших категорий теории права и всей юридической науки, позволяющей показать бытие (существование) права, механизм его действия, включая его – механизма – условия и факторы. В то же время приходится констатировать, что данная категория в современной юриспруденции трактуется по-разному, в зависимости от типа правопонимания. Более того, по мнению Р. Алекси, понятие права определяется ответом на вопрос что такое действительность права: «надлежащее установление (Gesetzheit), социальная действенность (Wirksamkeit) и правильность содержания (Richtigkeit). Тот, кто делает упор на правильность содержания и не придает значения надлежащему установлению и социальной действенности, получит в чистом виде естественно-правовое или разумно-правовое понятие права. К чисто позитивистскому понятию права придет тот, кто полностью исключит правильность содержания и подчеркнет значение исключительно надлежащего установления и/или социальной действенности. Между этими двумя крайностями располагается множество комбинаций из трех элементов»[282 - Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму). М., 2011. С. 15.].
В нормативизме действительность (или валидность) права понимается как юридическая сила формального источника права[283 - «Определенная норма действует юридически, если она издана компетентным органом в предусмотренном порядке, не противоречит высшему по рангу праву, иными словами, установлена надлежащим образом». – Там же. С. 108.]. В юс-натурализме – как моральная оправданность. При социологическом подходе действительность права предстает его действенностью, т. е.
фактическим воплощением в юридических практиках людей, в правопорядке, понимаемом как совокупность правоотношений и простых форм реализации права. В связи со сближением подходов к онтологии права, происходит признание взаимодополнительности трех аспектов действительности права. При этом сторонники как нормативизма (Г. Кельзен, Г. Харт), так и юснатурализма (Р. Алекси) полагают социальную действительность права условием и формально юридической, и морально-этической валидности[284 - Р. Алекси по этому поводу пишет: «В случае, когда система норм или отдельная норма абсолютно лишены социальной действительности, иными словами, им не присуща социальная действенность даже в малейшей степени, такая система норм или такая норма не может быть также юридически действительной. Следовательно, понятие правовой действительности обязательно включает в себя также элементы социальной действительности». – Там же. С. 107.].
На этом важном моменте следует остановиться несколько подробнее. Если законодатель принял нормативный правовой акт, полностью соответствующий формальным критериям и без нарушения процедуры его принятия, то его действительность с точки зрения нормативизма наступает с момента его вступления в юридическую силу. С соответствующего момента он – нормативный правовой акта – считается действующим, следовательно, действительным. Но вполне может оказаться так, что этот акт принят тоталитарной государственной властью и противоречит общепризнанным принципам естественного права. В таком случае он будет юридически действительным, но не будет считаться морально оправданным, «неправильным» (по терминологии Р. Алекси) или несправедливым. С другой стороны, если акт принят демократически избранным парламентом и с соблюдением всех демократических процедур, но по той или иной причине не будет фактически соблюдаться, исполняться или использоваться, то его следует признать формально юридически действительным, но не обладающим социальной действенностью. Это может быть связано с отсутствием финансирования, по причине отчуждения власти (даже демократически избранной) от населения или ошибками в законодательной технике.
Из трех вариантов действительности права приоритетным является именно социальный (или социологический), на что косвенно указал Р. Алекси. Дело в том, что «мертворожденные» законы не действуют фактически и потому не порождают правоотношения (шире – правопорядок в социологическим смысле слова). Только социальная действительность права дает возможность оценки действующего законодательства, системы права и, тем самым, формулировки критериев ее изменения, совершенствования. Естественно-правовой подход к действительности права сегодня невозможно эксплицировать в силу изменившихся социокультурных условий современного постиндустриального, мультикультурного общества. В условиях мультикультурного социума, свойственного подавляющему большинству современных обществ (независимо от того, проводится ли в них политика мультикультурализма), найти такие ситуации, по поводу которых был бы консенсус среди представителей разных культур, практически невозможно. Поэтому даже формула Г. Радбруха[285 - Вопиющая несовместимость закона со справедливостью дает основание для того, чтобы «закон как “неправильное право” должен уступить место справедливости». – Радбрух Г. Философия права. М., 2004. С. 233–234.], в которой предлагается минимальный консенсус по поводу крайних форм, дающих основание для общественного согласия об их категорическом неприятии (например, массовые убийства, террористические акты, геноцид и т. п.), о чем уже шла речь выше, сегодня не работает, если достаточно многочисленные жители европейских государств, получающих в них пособия или находящиеся в статусе беженцев, дружно приветствовали события 11.09.2001. Однако даже если такой консенсус и возобладает, то по поводу оценки подавляющего большинства нормативных правовых актов она – их оценка – с точки зрения справедливости невозможна. С другой стороны, если нормативный правовой акт фактически многократно используется значительной частью населения и положительно оценивается – то это свидетельствует не только о социальной его действенности, но и о моральной поддержке со стороны населения, т. е. о легитимности. Таким образом, из трех видов валидности права предпочтительнее является социальная, включающая остальные два вида.
Близкую точку зрения высказывает Н.В. Варламова, демонстрируя тем самым движение в сторону социологического либертаризма. «Нормативность любого социального регулятора и права в том числе следует понимать как совокупность требований должного, обусловленных сущим, выводимых из сущего и легитимированных им. Любая социальная норма – это не просто требование должного, но и отражение социально типичного (“нормального”) сущего. /…/ Источник любой социальной нормы кроется в сущем: она выражает и закрепляет социально целесообразные модели поведения и устанавливается и (или) обеспечивается авторитетной инстанцией (фактически признаваемой таковой, даже если она считается трансцендентально)»[286 - Варламова Н. В. Нормативность права: проблемы интерпретации // Правовая коммуникация и правовые системы / Труды Института государства и права Российской академии наук. Под ред. Ю.Л. Шульженко, Н.В. Варламовой. № 4/2013. С. 78.]. Действительность правопорядка, обеспечивающая действительность отдельных норм права, полагает Н. В. Варламова, «фактически сводится к его действенности и легитимности как условию действенности…»[287 - Там же. С. 94.]. Предельное же основание действительности правопорядка, по ее мнению, предопределяет предельная санкция, введенная Г. Кельзеном. «Именно предельная санкция, понимаемая как выход за рамки данного нормативного порядка, разрушение его, и есть то, что в конечном счете обеспечивает обязательность установленного нормативного порядка. Она принадлежит миру сущего, демонстрируя взаимосвязь сущего и должного: требования должного установлены для обеспечения определенного состояния сущего, которое с тех или иных позиции легитимировано как должное»[288 - Там же. С. 101.].
Социальная действительность права включает в себя, с моей точки зрения, имманентный (внутренний) аспект, который состоит в многократном использовании соответствующего правила поведения в практиках широких слоев населения и его положительную оценку, а также трансцендентный аспект – это его (правила поведения) функциональная значимость. Этот момент именуется трансцендентым потому, что он выходит за рамки системы права и обнаруживается в метасистеме – обществе. Право – это элемент системы более высокого уровня. Именно в ней – метасистеме – и проявляется его назначение: обеспечить нормальное функционирование (в идеале – развитие) социума с помощью нормирования как раз тех общественных отношений, которые являются для него (для основных подсистем общества) конститутивными, т. е. таких, без которых экономика, политика и т. д. не могут эффективно функционировать. Таким образом, социальная действительность права – это его действенность, результативность, которая выражается в производимом правом общесоциальном эффекте правового регулирования, а косвенно проявляется в массовом использовании правоприменителем и населением соответствующих правил поведения и их (правил) легитимности.
Существование (т. е. действительность) права, с моей точки зрения, – это результат борьбы социальных групп за право юридической номинации – квалификации социальных ситуаций как юридически значимых. Такая «борьба за право» «юридической гегемонии» включает «первичный произвол» лица, обладающего социальным (включая в современном мире и формально-юридический) капиталом, конструирующий новый правовой институт. Затем эта инновация с помощью механизмов символической манипуляции общественным сознанием легитимируется среди широких народных масс, хабитуализируется (опривычивается) и начинает выдаваться за «естественный порядок вещей», т. е. происходит «амнезия происхождения» сконструированного элитой и референтной группой правового института. При этом принципиально важно, что инновация становится правовым институтом, если она функционально значима. Только благодаря определенной эффективности правило поведения будет легитимировано и начнет воспроизводиться широкими народными массами. Последнее как раз и является показателем действительности права.
В связи с тем, что право не существует «само по себе», т. е. нет «чистых» правовых явлений (ситуаций), норм и институтов, а все они одновременно выступают психическими, культурными, многие – экономическими, политическими и т. д. феноменами, система права обладает лишь относительной автономностью. Отнюдь не безличностный механизм производит правовую коммуникацию, квалифицируясоциальные ситуации на правомерные/противоправные. Это делают люди – носители правовых статусов. Поэтому на процесс и результат юридической квалификации влияют все социальные факторы в той или иной степени. Юридическая наука, очевидно, должна их учитывать для оценки и совершенствования законодательства. Социальные ситуации переводятся с помощью механизма бинарного кодирования на правомерные/ противоправные в разряд юридически значимых, Поэтому содержание и полноту социальных ситуаций, которые существуют как политические, экономические и т. д., означиваемых как правовые, юриспруденция не может не охватывать своим вниманием. Таким образом, юриспруденция не может ограничиваться изучением законодательства – догмы права, т. к. в таком случае невозможны его оценка и совершенствование. Политика права, следовательно, – необходимый аспект юридического знания, включающий не только обоснование необходимости правовой инновации, «кода юридического означивания», но и анализ действия права – реализации норм права практиками людей. Именно на этом настаивает аналитическая философия после «прагматического поворота», утверждающего, что значение права как знака или текста – это его использование в юридической практике конкретными людьми.
Ко всему прочему, обосновать систему (в т. ч. правовую) методами этой системы невозможно, как доказано теоремами К. Геделя и А. Тарского: это возможно только с позиций «метасистемы». Такой метасистемой для системы права выступает система социума, существующая как борьба различных социальных групп за право номинации, репрезентации социального мира, т. е. как политика.
Дискурсивная деятельность человека – носителя статуса субъекта права, включая статус правоприменителя, вступающего в правоотношения, конструирующего нормы права, а также соблюдающего, исполняющего и использующего информацию, сформулированную в нормах права, т. е. приводящего их в действие, и есть действительность системы права после «прагматического поворота». Тем самым социальная валидность права включает и нормативистскую и естественно-правовую: действенность господствующей социальной группы, формирующей в соотнесении с другими социальными силами нормы права и населения, воспроизводящего их своими ментальными и поведенческими актами, а тем самым легитимирующими нормы права, предполагает догматическую действительность права и его моральную оправданность.
Диалогичность права
Очерченные выше аспекты бытия права демонстрируют его внутреннюю диалогичность, которая проявляется во взаимообусловленности рассмотренных аспектов бытия права и, прежде всего, юридически значимого действия и правовой структуры как социального представления о юридически должном в механизме воспроизводства права. Диалог индивида и структуры проявляется в том, что в процессе индивидуальной социализации структура как выражение господствующей в данном социуме культуры (доминирующие социальные представления) обладает приоритетом над субъектом, формируя его. Правовая социализация (как и социализация вообще) – это диалог индивида и выбираемого им социально значимого Другого. Когда же процесс социализации завершен, то есть субъект в основном социализирован (хотя этот процесс длится всю жизнь), приобщен к господствующим нормам, ценностям, знаниям, он имеет возможность попытаться осуществить преобразование структуры. Инноватика – это также всегда диалог актора инновации и его окружения (аудитории), прежде всего, властных институций, представленных людьми – носителями соответствующего статуса. Для выдающихся индивидов такие попытки часто оказываются успешными (хотя их успех зависит от множества факторов, а не только от свойств личности реформатора). Так понимаемый диалог показывает возможность преодолеть («снять») антиномию человек – структура, индивидуализм – объективизм.
Человек, чтобы быть субъектом социальных (и правовых) отношений, должен соотносить свои ожидания и действия с аналогичными ожиданиями и действиями другого – контрсубъекта социальных взаимодействий. При этом другой – это всегда человек, выступающий носителем собственно личностных качеств, и одновременно социального (часто – и правого) статуса[289 - «Другость», утверждает П. Рикер, «расщепляется на другость межличностную и другость институциональную. На самом деле для философии диалога всегда соблазнительно ограничить себя только отношениями с другим, которые, как правило, развиваются под знаком диалога между “я” и “ты”… Казалось бы, только такие отношения заслуживают называться межличностными. Но этой встрече не достает отношения к третьему, которое кажется таким же изначальным и простым, как и отношение к “ты”. … На самом деле только отношение к третьему, располагающееся на заднем плане отношения к “ты”, обеспечивает основу для институционального опосредования, какого требует складывание реального субъекта права, иными словами – гражданина». – Рикер П. Справедливое. С. 34–35.]. Восприятие конкретной ситуации как юридически значимой предполагает ее типизацию (категоризацию, классификацию и квалификацию), а этот процесс содержательно диалогичен, так как предполагает соотнесение единичного (воспринимаемой ситуации) и типичного (типизированного образца – фрейма или скрипта). Одновременно такое соотнесение включает личностные факторы: интересы, мотивацию актора. Для юридической ситуации принципиально важно ожидание взаимообмена правами и обязанностями с контрсубъектом – другим, квалифицируемым как субъект права (носитель прав и обязанностей). Собственно, правовое поведение, как правомерное, так и противоправное, представляет собой диалог – взаимное соотнесение или корреспонденцию прав и обязанностей, или, по терминологии А.В. Полякова – правовую коммуникацию. Диалогичность права – это когда каждый участник правовых интеракций (правоотношений и простых форм реализации права) знает и ожидает адекватного поведения со стороны любого другого, а такие взаимодействия являются функционально значимыми – обеспечивающими нормальное воспроизводство социума[290 - Субъект, по мнению П. Рикера, формируется благодаря уверенности в обоюдной дееспособности. «Это признание такой же способности за другими агентами, вовлеченными так же, как и я, в разного рода взаимодействия, не обходится без опосредования правилами действия…». – Поль Рикер в Москве. М., 2013. С. 79.].
Диалог в праве – это, прежде всего, механизм формирования правовой инновации, включающий выработку нового образца поведения, признаваемого юридически значимым. Правовая инновация отличается от потестарной (по терминологии сторонников юридического либертаризма), именно тем, что ориентирована на признание широкими народными массами, а не выступает проявлением «агрессивного насилия»[291 - Только оценка со стороны референтной группы, формирующей общественное мнение, способна определить критерии «агрессивного насилия» и отграничить его от «легитимного насилия». Объективного критерия того, что во все времена и у всех народов следует считать «агрессивным насилием» не существует.] (термин В.А. Четвернина). Тем самым некоторым социальным образцам поведения приписывается юридическая значимость.
Диалог в праве – это также механизм воспроизводства принятого образца юридически значимого поведения постоянным подтверждением его значимости. Это происходит благодаря трансформации знаковой формы нормативности права в социальные правовые представления (о которых речь шла выше), стереотипы массового поведения и интериоризированные персональные смыслы и навыки (личностное, практическое или фоновое знание, по терминологии М. Полани и Г. Райла). В результате правовая инновация входит в правовую культуру и правопорядок (многократно повторяющиеся правоотношения и простые формы реализации права) как динамический аспект правовой реальности[292 - Институт – это «повторяющиеся между людьми обмены, или, что лучше, “взаимная типизация привычных действии” (если обратиться к языку Шюца, используемого Бергером и Лукманом)… Для Вебера, как и для Гуссерля, институты, и в первую очередь государство, суть не что иное как форма со-действия, совместного действия индивидов, чья деятельность ориентирована в зависимости от некой субстанции, трансцендентной по отношению к этой сети взаимодействия». – Мишель Ж. Смысл институтов // Поль Рикер в Москве. М., 2013. С. 317–318. Ср.: «Институт как регулирование распределения ролей, а, стало быть, как система, есть нечто гораздо большее и иное, нежели индивиды как носители ролей. [Но] институт… существует лишь постольку, поскольку индивиды принимают в нём участие». – Рикер П. Я – сам как другой. С. 239.]. В этом смысле правовой диалог – это отношения (взаимодействия, включающие соотнесение экспектаций) Я – Ты, опосредованное нормой права, правовым институтом[293 - Собственно, правовой институт – это полагание другого как каждого, любого, безличностного Другого как носителя правового статуса, с которым строит отношения Я.].
«Диалогизм, – утверждает П. де Ман, – функционирует как принцип радикальной другости (otherness), или, если…воспользоваться терминологией Бахтина, как принцип вненаходимости (exotopy)»[294 - Де Ман П. Диалог и диалогизм // Бахтинский сборник. Вып. 5 / Отв. Ред. В.Л. Махлин. М., 2004. С. 112.]. Отсюда можно сделать вывод, что содержанием правового диалога является легитимность. Признание другого как любого, каждого равноправного субъекта права – имманентный признак права, по мнению А.В. Полякова, С.И. Максимова и некоторых других современных авторов[295 - Справедливости ради следует заметить, что уже Г. Гегель, по крайней мере в йенском периоде своего творческого пути, полагал, что «признание рождается одновременно с отношениями права. Право есть обоюдное признание». – Рикер П. Путь признания: три очерка. М., 2010. С. 172.]. «Способность к признанию, – пишет известный украинский теоретик права, – является собственно правовой способностью, делающей право возможным. Акты признания – это особые интенциональные акты, выражающиеся в направленности на Другого, при этом он рассматривается как ценность вне зависимости от степени его достоинств, как ценность, заслуживающая гарантий зашиты со стороны права. Ценностно-значимый акт признания есть то, что конституирует «клеточку» права, представляет собой конститутивный момент правосознания»[296 - Максимов С.И. Концепция правовой реальности // Неклассическая философия права: вопросы и ответы / Под ред. А.В. Стовбы. Харьков, 2013. С. 54–55.]. При этом признание другого как носителя статуса правового статуса тождественно легитимности правового института, так как последний существует, о чем упоминалось выше, как правовое социальное представление и массовые юридически значимые практики.
Признание права можно вслед за А. Хоннетом рассматривать в качестве онтического основания правовой реальности, как и социальности как таковой. Это связано с тем, что, по мнению лидера Франкфуртской школы, языковое понимание, а значит, и коммуникация, «привязано к неэпистемической предпосылке признания Другого»[297 - Honneth A. Verdinglkhung. Eine anerkennungstheoretische Studie. Frankfurt am Main, 1995. S. 59.]. Более того, признание у А. Хоннета выступает дорефлексивной фундаментальной данностью, предшествующей любому взаимодействию[298 - Honneth A. Kampf und Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt am Main, 1992.].
«Но что означает признание права (правовых текстов)? – вопрошает А.В. Поляков. Это есть признание неких общих рамок поведения, т. е. определенных прав и обязанностей, связывающих всех членов общества; признание их “объективного”, независимого от индивидуальной воли лица, и социально значимого (ценностного) характера, понимание их содержания и порядка реализации, включая признание возможности наказания за несоблюдение таких правил. … Право легитимируется не только через виртуальные тексты первичных источников права и не только через политические тексты государственной власти, но и через актуальные тексты, создаваемые самой практикой реализации прав и обязанностей»[299 - Поляков А. В. Прощание с классикой, или как возможна коммуникативная теория права // Там же. С. 18.]. При этом А.В. Поляков полагает, что «социальная легитимация, … не может быть установлена через какие-либо количественные признаки (столько-то человек “за” закон). Она обнаруживается лишь эмпирически, как некая социальная энергия, дающая возможность субъектам публично и с осознанием своей правоты выступать носителями прав и обязанностей, а также отстаивать и защищать свои права (индивидуально или через социальные институты, включая государство)»[300 - Поляков А.В. Нормативность правовой коммуникации // Известия вузов. Правоведение. 2011. № 5.С. 35.]. В другой работе А.В. Поляков полагает, что легитимность права «может быть как эксплицитной (формальной), осуществляемой через соответствующую процедуру принятия закона, так и имплицитной (неформальной), основанной на соответствии закона внутренним скрытым условиям коммуникации, указывающим на ее аксиологическое измерение. Только этим и оправдывается сама возможность государственного принуждения к тем, кто нарушает правовые предписания. … Наличие легитимации можно проверить эмпирически: реальное, публичное и свободное использование субъектами своих прав и следование своим правовым обязанностям свидетельствует о минимально необходимой степени легитимации правовых текстов»[301 - Поляков А. В. Коммуникативный подход к праву как вариант постклассического правопонимания. С. 26.].
С близких позиций проблему легитимности права подробно обсуждает М. ван Хук в работе «Право как коммуникация». По его мнению, легитимация «правовой системы в целом может быть лишь разновидностью слабой легитимации, т. е. актуальным признанием правовой системы как факта, идентификацией ее как “правовой системы”. В этом смысле правовые системы получают среди других систем признание в качестве морально приемлемых даже без “сильной” легитимации. Легитимация в полном смысле может быть осуществлена только по отношению к частям правовой системы. Более того, различные типы (совокупности) правил и принципов будут требовать различных типов легитимации: моральной, политической, экономической и т. п. Некоторые будут требовать содержательную легитимацию, для других может оказаться вполне достаточно формальной легитимации»[302 - Ван Хук М. Право как коммуникация. СПб., 2012. С. 251.].
Под «легитимацией» бельгийский ученый понимает «нормативную действительность законов, признание за ними должной обязательности. Такая действительность более значима, чем социологическая действительность, заключающаяся в том, что законам следует большинство, и в том, что большинство согласно с данными законами, даже если это согласие является вынужденным. … Признание правовой системы или ее частей (правил, решений суда) субъектами права оказывается шире, чем просто моральное признание. Нам следует рассматривать это в более широкой перспективе социального признания. Чтобы быть широко признанным в обществе, содержание закона или судебного решения должно соответствовать минимальным нравственным стандартам, превалирующим в данном обществе. Однако такое признание зависит не только от морального аспекта. Оно связано с целым комплексом моральных, социологических и прагматических решений. Нравственно нейтральные формы и процедуры вполне могут оказаться решающими в этом вопросе»[303 - Там же. С. 254–255.].
Проблема, отчасти парадоксальность легитимации права состоит в том, что принятие права – это психический процесс, до конца не проясненный современной наукой. Общественное мнение, как четкие представления не просто о желаемом, а о рецептах достижения желаемого, должного – справедливо указал П. Бурдье в начале 70-х гг. ХХ в. – не существует[304 - См.: Бурдье П. Общественное мнение не существует // Социальное пространство: поля и практики. – М., СПб., 2005.]. Оно формируется элитой, обладающей (часто – узурпировавшей) правом на официальную номинацию социальных явлений и процессов (в том числе, и правовую квалификацию) и референтной группой, а поэтому ситуативно, подвержено манипулируемости со стороны власть имущих. Не случайно П. Рикер пишет: «Формы согласия следует описывать в связи с поддерживающим их одобрением: от чьего имени каждый раз атрибутируется значимость? И по завершении какого квалификационного испытания она считается легитимной?»[305 - Рикер П. Путь признания. С. 195.].
Легитимность – согласимся – парадоксальное явление[306 - О парадоксе(ах) авторитета см.: Рикер П. Справедливое. С. 207 и след.]. Парадоксами легитимности являются: недоверие к власти и одновременно необходимость власти[307 - М. Фуко утверждал, что власть не только подавляет и угнетает, но и способна созидать. Сообразуясь с системой знания, власть как «микрофизическое явление» проникает в ткань общественных отношений и обеспечивает воспроизводство социальной реальности. – Foucault M. Dispositive der Macht. Berlin, 1978.]; отсутствие соотнесенности принятия системы права и отдельных норм права[308 - О различии действительности норм в рамках данного правопорядка и действительности самого правопорядка, которая фактически сводится к его действенности и легитимности как условию действенности пишет Н.В. Варламова. – Варламова Н.В. Нормативность права: проблемы интерпретации. С. 94.]; необходимость постоянного выход за рамки легитимного правопорядка для его совершенствования: для легитимности права потребно недоверие к нему. Признание другого как равноправного субъекта права (носителя статуса) обусловлено психическими стереотипами межличностного восприятия, предубеждениями, в том числе, приписыванием отрицательных свойств любому представителю другой социальной группы[309 - Самопризнание и взаимное признание, – пишет П. Рикер, – всегда остается незавершенным и наиболее уязвимым по причине «постоянно сохраняющейся асимметрии отношения к другому по модели помощи, а также и наличия реальных препятствии». – Рикер П. Путь признания: три очерка. М., 2010. С. 71. В то же время взаимность возможна только при наличии асимметрии «я – другой». – Там же. С. 148.]. Другой в традиционном мышлении – это, как правило, чужой. Для преодоления такого положения дел как раз и необходим диалог как политика толерантности, признание другого равноправным мне и любому Другому. Эта проблема усугубляется сложной структурированностью, высокой социальной мобильностью и фрагментарностью, мультикультурностью современного социума. При фрагментаризации референтности как таковой и референтных групп ставится под вопрос принятие всеми единого для данного социума правопорядка. Существует ли таковой или следует говорить о множественности правопорядков? Признание другого предполагает необходимость учета (а значит – четкой идентификации) социального (и правового) статуса контрсубъекта, а также единство «когнитивной базы» – неких общих представлений об устройстве мира и положения в нем человека (В.В. Красных).
Институты, утверждает П. Рикер, легитимируются дискурсами и текстами, а эти последние производятся, высказываются и публикуются институтами, жаждущими легитимации[310 - Рикер П. Справедливое. С. 209.]. Отсюда возникаетеще один парадокс легитимности – парадокс представительства – самоосвящения представителя, действующего, якобы, от имени представляемого. Парадоксальность представительства состоит в том, что доверенное лицо обретает власть над передавшим ему свои полномочия[311 - Бурдье П. Делегирование и политический фетишизм // Социология политики. М., 1993. С. 233.]. Это связано с тем, что группа образует себя как раз с помощью делегирования, наделяя мандатом выступать от своего имени какого-либо индивида. В результате возникает отношение метонимии: доверенное лицо превращается в часть группы, которая может функционировать как знак вместо целой группы. «Обозначающее – это не только тот, кто выражает и представляет обозначаемую группу; это тот, благодаря кому группа узнает, что она существует, тот, кто обладает способностью, мобилизуя обозначаемую им группу, обеспечивать ей внешнее существование»[312 - Там же. С. 239.].
Особое значение проблема представительства приобретает в эпоху глобальных проблем современности, когда происходит рост некомпетентности масс вследствие дифференциации знания. Может ли народ давать компетентные наказы своим избирателям или хотя бы компетентно их контролировать, если признать преимущества свободного мандата над императивным? Сомнительность положительного ответа вытекает как раз из растущей некомпетентности большинства и манипулируемости общественным мнением[313 - О манипулируемости общественным мнением см.: Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. М., 1997.]. Проблема представительства усугубляется также тем, что, как доказал К. Арроу, с одной стороны, результат голосования – единственного способа обеспечить представительство – прямо зависит от процедуры его проведения, а, с другой стороны, не существует правила коллективного выбора, удовлетворяющего принципам демократии[314 - Arrow K. Social Choice and Individual Values. N.Y., 1951.].
Легитимность права, следует согласиться с А.В. Поляковым, достаточно сложно измерить. Границы легитимности условны и изменчивы; они простираются от полного доверия до критического отношения к соответствующему институту права. Механизм воспроизводства (как инновационного, так и традиционного) легитимности права – дискурсивные практики социальных групп в борьбе за право официальной номинации социальных явлений, в том числе, юридической квалификации. Именно победитель с помощью символической власти номинации «убеждает» население в легитимности соответствующей картины мира, правовой реальности. До тех пор, пока широкие массы населения не выступают открыто против такой картины мира – в данном социуме имеет место легитимность как содержание диалогичности.
Подводя некоторый итог, можно утверждать, что диалог в праве – это универсальная абстракция, необходимая для уважительного отношения к Другому, это отказ от привилегии собственной точки зрения, от доминирования или «агрессивного насилия». В то же время правовой диалог – это артикуляция различий в рамках «продуктивной коммунальности», а не утопия всеобщей дружбы или любви. Диалог в праве – это признание необходимости Другого (или «другости», по терминологии П. Рикера) как условие выживания всех.
Обладает ли диалогическая онтология права эвристической ценностью, или это не более чем другое обозначение коммуникативной теории, как полагает А.В. Поляков? В частности, он пишет: «…диалог…есть все та же коммуникация и переименование коммуникации в диалог ничего нового для понимания этого явления не дает. He добавляет ясности и принципиальное положение автора о том, что право – это не любой диалог, а только такой, “который обеспечивает нормальное функционирование социума”. Здесь неожиданным образом в понятие права вмешивается нормативное долженствование в духе классического юснатурализма»[315 - Поляков А. В. Право: между прошлым и будущим // Известия вузов. Правоведение. 2013. № 3. С. 9. Я благодарен А.В. Полякову за конструктивную критику моей позиции: без таковой невозможно ее уточнение и дальнейшее развитие.].
Во-первых, и коммуникативная, и диалогическая теории – это применение соответствующих социально-философских концепций к исследованию права. Такой подход, связанный с выходом юриспруденции в междисциплинарную область, позволяет по-новому взглянуть на традиционную проблематику юридической науки и открыть новые пласты, аспекты потенциально «неисчерпаемого» (как неисчерпаем, по мнению физики, электрон и, а с позиций социальной философии – человек, политика или экономика) явления – права. То, что диалогизм близок коммуникации или наоборот, отрицать бессмысленно. Поэтому в принципе эти подходы можно считать как «комплементарными». Но не любая коммуникация является одновременно диалогом, поэтому полной синонимии между этими понятиями и тождества между концепциями нет (хотя близость, несомненно, повторюсь, присутствует). Содержанием правовой коммуникации, как ее понимает А.В. Поляков, как раз и является диалог, предполагающий принятие позиции Другого, соотнесение экпектаций участников интеракции[316 - Не случайно Ю. Хабермас утверждает, что право стабилизирует ожидания от тех или иных действий и «тем самым выполняет свою собственную функцию». – Хабермас Ю. Расколотый Запад. М., 2008. С. 120.]. Это не просто «условие коммуникации», как пишет А.В. Поляков, а содержание правовой коммуникации, которая выступает формой диалога. Полагать, что «это обстоятельство давно уже выяснено в современной науке»[317 - Там же.], на мой взгляд, некоторое преувеличение: современная наука пока еще очень далека от выяснения того, как и почему в одних случаях диалог (или коммуникация) протекает нормально и достигает желаемого результата, в других – нет. Измерение принятия точки зрения Другого или взаимного признания субъектов правовой коммуникации как некой «социальной энергии, дающей возможность субъектам публично и с осознанием своей правоты выступать носителями прав и обязанностей, а также отстаивать и защищать свои права» (по А.В. Полякову) выглядит достаточно туманно (что это за энергия, каковы критерии «осознанности правоты» и т. д.), что не означает бесперспективности и необходимости продолжения попыток такого измерения.
По мнению А.В. Полякова, «туманность» моей интерпретации диалога состоит в том, что «диалог – это взаимообусловленность, взаимодополнение и взаимопереход каких-то явлений: материального и идеального, должного и сущего и т. д. Данная трактовка диалога ничем не отличается от смысла тех явлений, через которые его описывают, – взаимообусловленности, взаимодополнения, взаимодействие, взаимозависимости. Такого рода «диалоги» можно найти в природе, в сфере материального существования каких-то внешних объектов. Если есть, например, взаимообусловленность движения по орбите Земли и Луны, то можно сказать, что эти небесные тела ведут между собой “диалог”. … При этом уточняется, что взаимодействие может быть названо диалогом только в том случае, если интеракции происходит принятие точки зрения другого, кем бы этот другой ни был. Здесь уже возникает другая концепция диалога, не стыкующаяся с первой. Ведь ни “материальное”, ни “идеальное” людьми не являются»[318 - Поляков А. В. Право: между прошлым и будущим. – С. 8–9.]. Диалог, конечно, возможен только в социальных явлениях и процессах, включающих психическую их сторону, то есть, внутренний диалог. Однако специфика социального состоит в овеществлении (реификации или объективации, иногда – натурализации) отношений между людьми: последние приобретают в общественном сознании вид или форму природных, объективных феноменов. Поэтому социальная философия, а вслед за ней и все социальные науки, используют (по крайней мере, использовали до сих пор) такие натуралистические выражения, как «материальное», «идеальное», «должное», «сущее» и т. д. Как раз диалогическая методология призвана показать, что за этими реифицирующими понятиями скрываются взаимодействия (ментальные и поведенческие) между людьми. Когда единичное начинает многократно воспроизводится (повторяться), то оно превращается в сознании людей в типичное, обеспечивающее нормативность и социализацию жизненного мира. Собственно, внутренний диалог и есть соотнесение себя (личностной интенции) с этим типичным; это и есть принятие точки зрения Другого. Другими словами, материальное, идеальное, должное, сущее и т. д. существуют только в знаковой форме и практиках людей. Взаимообусловленность, взаимодополнения, взаимодействие, взаимозависимости – это понятия, призванные показать, что одна сторона или аспект не существует без другой и как именно эти противоположные стороны сосуществуют. Тем самым проясняется механизм воспроизводства правовой реальности, содержанием которого и выступает, с моей точки зрения, диалог. Странно, что это вызывает некоторое недопонимание.
Диалогическая онтология права, используя социально-философскую концепцию диалогизма, акцентирует внимание на внутреннем диалоге как предпосылке успешности правовой коммуникации, на психических (психологических) и лингвистических механизмах достижения консенсуса в обществе, на дискурсивности юридических практик, на механизмах правовой социализации и идентичности, на предвосхищении собственного поведения, ожиданиях поведения от «обобщенного Другого». Эти и другие проблемы – субъекта ответственного поведения, общественного консенсуса и договора, взаимопонимания и т. д. – были сформулированы и получили теоретическое осмысление (хотя и, конечно, никак не окончательное решение, что невозможно в принципе) именно в диалогической философии П. Рикера, Г.-Г. Гадамера, В.С. Библера, а не коммуникативной.
По большому счету, на мой взгляд, не так уж и важно, как именовать исследования, например, Ю. Хабермаса или Ю. М. Лотмана – коммуникативными или диалогическими. В них можно обнаружить и то, и другое, тем более, что граница между этими направлениями философской и научной мысли весьма относительная. Важно не название, а новаторство результата исследования, полученного в рамках любого направления.
По поводу же непроясненности трансцендентного критерия диалога[319 - Трансцендентальный критерий права – с моей точки зрения – это не просто «сопротивление структуры», понимаемое как ограничения, налагаемые на конструктивистскую активность человека, и не «нормативное долженствование в духе классического юснатурализма», но «социальные условия жизнеобеспечения существования человечества». – Harre R. Social Being. 2-nd end. Oxford, 1993.] (это во-вторых) замечу, о чем уже шла речь выше, что без нормального воспроизводства социума, без минимума функциональности, то есть, легитимности и эффективности права, в условиях социальной аномии (это и есть показатель функциональности права) никакая коммуникация или диалог невозможны. Трансцендентная универсальность права – это абстракция самого высокого порядка как априорные условия возможности существования человека, общества, права. Наполнить ее конкретным содержанием можно только в соответствующем историческом и социокультурном контексте. Доказательность этого критерия – условия – диалогичности права методом «от противного» (если общество существует, то в нем не могут не быть нормы, которые обеспечивают это существование) ничуть не хуже положения А.В. Полякова по поводу наличия легитимации, которую «можно проверить эмпирически: реальное, публичное и свободное использование субъектами своих прав и следование своим правовым обязанностям свидетельствует о минимально необходимой степени легитимации правовых текстов».
Таким образом, с моей точки зрения, диалогическая и коммуникативная программы онтологии права взаимопересекаются и у них гораздо больше общего, чем принципиальных противоречий.
Правопонимание в контексте постклассической онтологии
М.В. Ульмер-Байтеева