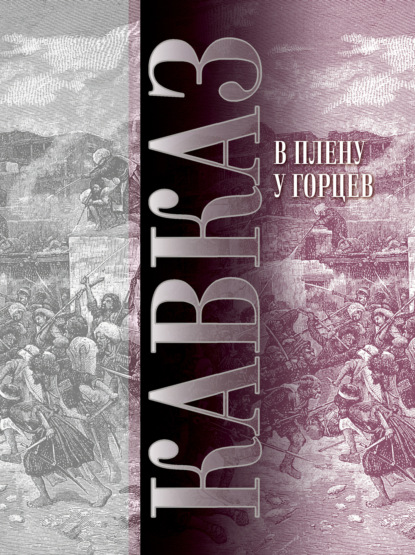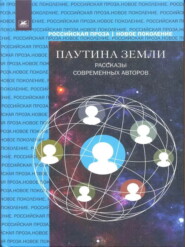По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кавказ. Выпуск XIII. В плену у горцев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
При отправлении в дальний набег лошадь каждого осматривается, и если не может выдержать большого пути, оставляется со своим всадником дома. Потому всякий старается иметь свою или берет напрокат, за что не платит ничего и тогда, если возвращается с добычей, как, например, со скотом, главным промыслом.
На этом фланге, по неудобству места, лошадей очень мало, и они не так красивы, как черкесские, где много лугов и нередкий имеет табун.
Скот они перегоняют искусно вплавь, привязывая себе на спину надутые кожаные мешки. Набеги делают в свободное от занятий домашних время, весной и по уборке хлеба осенью. Тогда в самом Тереке делаются броды. Вообще все ручейки, не только реки, разливаются весной от таяния горного снега.
Без позволения наиба, не имея от него записки, никто не смел отлучиться к мирным; пешие кое-как прокрадываются, но редко удается конному. На посту его пропустят сначала, но на возвратном пути отбирают у него и лошадь, и оружие. Нередко бывает, что многие ездят без позволения, в необходимых случаях, когда угоняют скотину. Тогда, не мешкая, выслеживают похитителя по разным приметам: по измятой траве или бурьяну, в лесу по сломанным сучьям; отобранное на посту возвращается по записке наиба.
Цидулы эти пишутся больше слогом арабским ученым, понятным не всякому, и скрепляются именной печатью наиба.
Простолюдины хотя не знают арабского языка, но необходимые молитвы понимают по переводу на свой язык. Даже некоторые выражения из Корана богобоязненный горец должен понимать. Мулла необходимо должен знать арабский язык, чтоб толковать Коран. Ученые муллы большей частью из сюлинцев; они-то и обучают мальчиков грамоте, школ же особенных нет.
До Шамиля не было этих наибов; в аулах были старшины и не имели большой власти; воровство было повсеместно. Часто один другого обирал всего, даже брал в плен и одноаульца и продавал его в дальний аул.
И теперь еще редко кто отойдет от своей сакли на несколько шагов без оружия. Чем кто больше имеет его, тот, значит, лучше умеет владеть им – вполне воин. Не имеющий оружия называется баба: сте-сенна. Женщины не носят его, но в Гильдагане, где я жил, была одна, постоянно носившая мужское платье; она даже исполняла мужские работы – пашню и покос. Случается, что вооружаются и они: это при нападении наших на аулы.
Гостеприимство считается у них первым долгом, и отказать в чем-либо просящему грешно и стыдно; но лицемерие, вероломство и сребролюбие – отличительные их черты. Гости со двора – начинают их судить и рядить. Чтоб не подать подозрений о склонности к воровству, как они выражаются сами, лично они ласковы. На слова их положиться нельзя. Он вас любит как брата, но шапка серебра – вы всё-таки гяур – и он отдаст вас в адские руки. Как прежде они делили с вами вашу тоску, сам плакал, смотря на вас, считал вас выше себя, целовал даже ваши руки, так после засмеется на ваши слезы и захохочет, как над ребенком, при вашем грустном взгляде при прощании с ним. Серебро тогда изменяет в нем все. Как красив он и строен, так точно и гнусен порой. Склонность ко всему прекрасному и скорый переход ко всему дурному поразительны.
* * *
Добрая нравственность поддерживается или прежним преданием старины, когда еще их понятия были девственны, или строгостью законов. Преступление наказывается или смертной казнью, или заточением в яму.
Это их тюрьма, где отверстие сверху. Туда заключают всех воров, если их отыскивают. Похитить что-либо тайно, или, как говорят, уметь схоронить концы, еще и теперь считается удальством; но открытый преступник наказывается жестоко. Укравший уходит в другое владение и живет там или у своих родственников, или знакомых. У воров для того знакомых много в разных аулах. Пройдет время иска, вор возвращается благополучно; иск ограничивается тогда взятием чего-нибудь из дома укравшего.
В ту же яму сажают и ослушников, кто не пойдет в караул, или в набег, или в работу для начальника, и держат там три или четыре дня. Туда же сажают и тех, кто не был в мечети в праздничный или недельный день, пятницу, нересман (перескан); если не хочет дать что-нибудь из своих пожитков, мюрид приходит в дом его и берет одну или две меры, смотря по вине, кукурузы, или пшеницы, или проса или берет серп, марс, или цэль (скребок для лущения кукурузы), вилы или косу, мангыль. Также старшего из семейства или из близких родственников бежавшего к русским. Сакля бежавшего сжигается, а его брат, или отец, или сын заключается на несколько дней, пока не передаст о себе бежавшему. Но возвращаются редко – и невиновный через некоторое время освобождается.
* * *
Многоженство, как по закону Магомета, позволительно; но редко кто имеет двух жен.
Вся домашняя ответственность лежит на женщине, как на рабе, и потому, чтоб не ослабить хозяйства и предупредить разврат, Шамиль хочет, чтобы не было ни вдов молодых, ни дев пожилых – монахинь. Девушке определено одиночествовать до пятнадцати, мальчику – до семнадцати лет. Пять или шесть мюридов от наиба ходят по аулам своего владения и ищут таких. Находят жениха, найдут ему и невесту, и если кто из них не согласен, того в яму; противника продержат до смерти. При согласии мюриды и домашние сговоренных начинают стрелять, чем подают сигнал к свадьбе. После делают приготовления к торжеству: богатый жених закалывает корову или быка и несколько овец; бедный – одного, много двух баранов. Невесте шьется рубашка, готовится платок или два. Дней через пять или через неделю старшие, мужчины и женщины, приводят невесту в дом жениха, и тогда молодежь начинает веселиться. Во все стороны сыплются пули из ружей и пистолетов, и чем более останется знаков на стенах, тем, значит, более приверженцев у молодого и тем краше его невеста. Повеселясь, начинают угощаться: в мирных аулах варят брагу (по-чеченски нэхэ, по-кумыкски буза); у немирных ничего этого нет, кроме одного съестного.
Прежде жених платил за невесту более десяти тюменей, что составляет сто целковых, разумеется, не все деньгами, а скотом и пожитками; нынче Шамиль ограничил и самих красавиц только тремя тюменями. В бедных местах, особенно близких к нашим, в разоренной Чечне, жених отдает отцу или матери невесты только три рубля серебром, остальное обещает уплатить впоследствии. Обещает иметь всегда на имя жены или лошадь, или пару волов и корову, или несколько мелкого скота, и если захочет продать что из этого или обменять, то без согласия жены не может; грех общий, если скотина эта падет или будет украдена.
Если жена не хочет жить с мужем, то лишается всего имения; разве муж даст ей для ее прокормления дочь, сына же только до его возраста; если же муж выгоняет жену, то отдает ей все принадлежащее; иногда мир присудит дать ей сына, если есть, разумеется.
* * *
Вообще женский пол не так красив, как мужчины. Напрасно многие прельщаются красотой этих дикарок: очаровательного я не нашел в этих куклах. Правда, они красивы, как картинки, но дикий взгляд, бездушие в чертах, с одной чувственностью и коварством в улыбке – не могут назваться идеалом. Нет того взгляда, как в лице скромной европейки, хотя не красавицы. Рожденные от рабынь, как весь женский пол – по закону Магомета, рабыни, лишенные прав, дарованных мужчине, как бы посредницы исполнений всех прихотей мужа, несчастные ищут уловки подышать свободой, стараясь угодить чем-либо своим властителям, – и вот с детства закрадывается в них лисья хитрость. Никогда муж не подарит своей жене веселой улыбки; редкий разделяет с ней трапезу; как раба, она покорна его взгляду и, как виноватая, во всяком взгляде его ищет себе приказания и ловит его малейшее движение. Никогда он не разделит с ней радости, и если рассказывает ей о своем наездничестве, удальстве и удаче, то не для того, чтоб удвоить свою радость, но чтобы более породить в ней к себе покорность. Этим фанатикам каждая нежность считается неприличной, и любовь к детям свойственна только матери. Никогда он не возьмет полелеять своего ребенка, никогда не полюбуется на него. Нет помощи от него и больной жене: это дело женское. Конь, ружье и шашка – вот его тоска душевная; пашня, посев и покос – забота житейская. Спросите его, каков его малютка, хорош ли, на кого похож или здоров ли – не узнаете ничего: он сошлется на мать.
Первый вопрос пленному они задают: «Есть ли мать?». О братьях и сестрах спросят редко, об отце еще реже. Если мать есть, то говорят, что не будет жить.
Такая рабская жизнь кладет на лицо их и отпечатки рабские. Никогда вы не увидите на нем сердечной тоски; если какая взглянет на вас мило, то это – взгляд только природы или мимолетное чувство, намек на совершенство. Любовь ее вероломна, слова – огонь. Подойдете – не останется в вас праху; покоритесь – она адски засмеется над вами.
Эти-то качества женщин поселяют к себе отвращение в мужчинах, которые, не расширяя своего ума далее пределов обыкновенных, представляют себе женщин созданными рабынями.
Если бы с молодых лет в этого прекрасного ребенка гор, где восприимчивость как бы трепещет, вдыхать всю жизнь европейца, то это точно был бы идеал совершенства.
* * *
Поучительным примером может служить безусловное почтение горца к старшим. Разительно чтят они память умерших.
Хоронят так: в могиле сбоку делается углубление, куда и кладется покойник; наискось заставляется досками, и потом уже могилу засыпают. Мертвеца обертывают в халат, концы которого завязываются на голове и ногах; когда опускают в могилу, держат над ней одеяло и под ним снимают этот холст духовные люди. По зарытии, мулла берет с могилы горсть земли и садится с ней читать молитвы из Корана; по жалобном прочтении рассыпает эту горсть по всей могиле. Ему подают кувшин с водой и лоскуток холста вместо полотенца: омыв и отерев руки, он берет холст себе. После того на кладбище начинается тризна. Если в это время кто проходит мимо, то или зазовут его, или же непременно вынесут ему порцию. К этому времен они пекут блины, делают беники (пшеничный хлеб) и сладкое тесто из кукурузной муки, перемешанной с маслом и медом и обжаренной на огне; мясо – необходимая принадлежность, все это режется на куски, хлебное – треугольниками, и раздается посетителям смертного места.
На могилах ставят памятники или деревянные, с шаром наверху, наподобие человека, или каменные. На последних вырезается вся принадлежность: женские – ножницы, очки, иглы и тому подобное; мужчине – все его одеяние и оружие, а богомольцу – кувшинчик и подстилку, на которую становятся во время молитвы, и четки. Над убитым от руки неприятеля становится длинное, конически обделанное бревно, с разноцветным наверху полотном, подобным байраму.
Когда идут на работу, заходят на кладбище поклониться праху родственника; с работы же, если с покоса – кладут клочок травы; а по уборке хлеба или при посеве сыплют на могилы зерна. Накануне пятницы или недельного дня они пекут блины, или делают сладкое тесто, или варят кукурузу и разносят это частями по родным и знакомым, прося помянуть покойного. Также в положенное время поминок закалывается корова или бык и разделяется между всеми, хотя и незнакомыми, если селение невелико.
Праздная жизнь горца не представляет собой ничего занимательного. В свободное от воинственных занятий время он совершенно беспечен; но, несмотря на всю свою бедность, он доволен собой. Редко он призадумается, и склонить голову на руку считается малодушием. Надежда на свою силу и проворство делает его разгульным, но не порождает в нем стремления к изящному. Или, по красоте самого места, он, упоенный дарами природы, не подвигает своего ума за пределы сил своих. Не видя ничего лучшего, он спокойно спит в своей берлоге и дико рыщет на залетном коне по диким гребням гор. В тумане проходят дни его, хотя солнце и светит светло и природа роскошно развернута под голубым небом. Ученость и искусства ему чужды; равно он смотрит на дикий рев воды, на тихий ручеек, на громадные снежины и на мягкий луг; страшный гул грома и могильная тишина ему одинаковы.
II
Назад тому пять лет отряд наш был в Большой Чечне, в Ичкерийском лесу или на хребте Кожильги, славным по битве как для нас, так и для горцев. В стычке при смешении шашек и штыков, с ударом моим по одному из горцев я был сдавлен и попал в руки неприятеля.
Меня отвели тотчас назад. Пройдя несколько саженей, мой пристав, который приписывал себе право победителя и поэтому законного владельца моей особой, уселся и посадил меня отдохнуть на срубленный чинар. Объяснив хозяину свою жажду, пошли мы к ручью и встретились со старухами из ближнего аула, спешившими за добычей. Всяк торопился, кто бежал, кто скакал. Из зависти ли к моему хозяину или от нетерпения положить хоть одного уруса, иной готов был пустить в меня пулю, наводя дуло; но хозяин, отстранив меня к скале и держа ружье наготове, ворчал против дерзкого; иной на скаку замахивался плетью, и одному удалось-таки ударить меня по плечу; с гиком: «Эй, гяур-йя!», повертываясь в седле, он ударял той же плетью своего коня.
Напившись и пройдя еще немного, мы сели с чеченцем, которого я сделался добычей: мои патроны и кремни были у меня отобраны; он спросил о деньгах, но не обыскивал на мой ответ. Отобрав, повел меня опять на ту поляну, где было побоище, и здесь передал другому; а сам, толкуя: «Брат, брат», пошел дальше. Вскоре толпа меня окружила, она несла напоказ все добытое на месте сражения; чеченцы веселились и заставляли меня играть на скрипке; я попросил нож и начал делать подставку; тогда внимательно смотрели все, повторяя часто: «Варда, варда». Вероятно, говорили, что я буду мастер делать арбы (грузинские телеги или арбы у них называются вардами). Кто бросал мне кусок сыскиля (кукурузный хлеб), но я просил беспрестанно пить – и помоложе кто, тотчас отправлялся с травинкой.
Прошло часа два, я все еще сидел с чеченцами около толпы. Русские штыки сверкали в глазах моих, а мой искривленный переходил из рук в руки. Меня позвали и подвели к носилкам, которые опустили передо мной, чтобы я осмотрел лежавшего на них раненого старика. Я сказал, что умрет нынче же к вечеру.
– Ну, неси.
Мороз пробежал по мне, я отговорился, что без хозяина не могу; но тут же подошел и Абазат (имя чеченца – моего хозяина), повторил слово «брат», и мы, подняв носилки, стали спускаться.
Несшие беспрестанно переменялись, а мне доставалось отдыхать, когда останавливались все; тогда они делили между собой сыскиль (хлеб из кукурузы), ломая его на куски и бросая каждому под свернутые ноги. Другому на моем месте показалось бы пренебрежением такое швыряние, но так ловил каждый из нашего круга. Закусив, прихлебнем водицей и опять идем. Смерклось; мы остановились ночевать; я, как невольник, тотчас отправился за хворостом, за мной присматривали только издали.
Ружье мое и сума были переданы верховому их одноаульцу, ехавшему домой сложить добычу и запастись хлебом, чтоб опять преследовать отряд.
С восходом солнца я стоял под чинаром, неподалеку от своих; прочитал все молитвы, какие знал, обновляясь жизнью; мне не мешали. Обогрелось утро, к нам пришла жена старика и сестра его; старик был еще жив, предсказание мое не сбылось. Поплакали и понесли опять. Сестра, так же как и я, шла не переменяясь; старуха шла позади молча. Я отдал молодой свой лоскут холста, подкладываемый на плечо под носилки, и она, отговариваясь, взяла его с веселой улыбкой. Наконец мы спустились совсем вниз, где приготовлена была для раненого арба; уложив больного на мягкую постель и подушки, сами мы пошли сзади. Дальше и дальше молодая развлекалась, поглядывая часто на меня сквозь слезы.
Не допросив как зовут меня, они дали мне имя Судар.
«Быть так!» – сказал я себе, когда Абазат, при переименовании, ударил меня по плечу. На мой вопрос, хорошо ли это имя, Дадак (так звали молодую, двоюродную сестру Абазата и родную больного Мики) улыбкой подтвердила мне. С той поры все время я слыл под этим именем.
Не удалось мне слышать такого имени между ними, и сколько ни расспрашивал, говорили, что такое имя есть; мне же оно казалось почетным названием: хозяева, прежде мирные, вероятно, не раз слышали между нашими слово сударь. Как бы то ни было, Судар был встречен горцами как сударь.
* * *
Больной изнемогал, его положили на сани. Дорогой рассуждали обо мне, это было понятно, когда поглядывали на меня. Наконец один из чеченцев спросил меня, умею ли я косить, показывая на траву и махая руками; я отвечал, что учился только писать, но могу привыкнуть и к этому. Я толковал и так и сяк, говоря:
– День, два, три – там буду мастером на все.
Все были довольны.
Скоро показался аул; горцы обратились ко мне со словами: «Гильдаган, Гильдаган!» – так звали наше селение, когда мы пришли к саклям. Начали сбегаться все родные и знакомые, начался плач. Я вошел было следом за ними, но мне показали другую саклю. У семейства, которому я принадлежал, было три сакли. Горцы обыкновенно располагаются таким образом, что сакля самого младшего брата строится между саклями среднего и старшего; последняя приходится с левой стороны, следовательно, сакля среднего брата будет справа от младшего, моего горца. Там меня встретила девушка Хорха, сестра моей хозяйки Цапу, жены Абазата. Обменявшись салямом, я сел у стены на завалину. Со двора послышался зов; Хорха, выслушав приказание, тотчас поставила передо мной как-то оставшиеся куски сыскиля с биремом (горцы, когда время пищи, тогда только и стряпают; куски остаются редко. Все это делается по мере. Бирем – давнишнее квашеное соленое молоко, беспрестанно разводимое то водой, то молоком, с приправой соли; кадушка стоит круглый год. К сыскилю подают в небольшой чашечке этого бирема ложки три).
Не прошел час, как вдруг поднялся сильный рев и крик: старик умер. Девица была без чувств, любя Абазата, зная тоску его; пришел Абазат и, ударившись в стену, начал плакать. Было не до меня, я вышел вон.
Умерший старик Мики заменял им всем родного отца. Место старшинства в фамилии занял родной брат умершего, Ака.
На этом фланге, по неудобству места, лошадей очень мало, и они не так красивы, как черкесские, где много лугов и нередкий имеет табун.
Скот они перегоняют искусно вплавь, привязывая себе на спину надутые кожаные мешки. Набеги делают в свободное от занятий домашних время, весной и по уборке хлеба осенью. Тогда в самом Тереке делаются броды. Вообще все ручейки, не только реки, разливаются весной от таяния горного снега.
Без позволения наиба, не имея от него записки, никто не смел отлучиться к мирным; пешие кое-как прокрадываются, но редко удается конному. На посту его пропустят сначала, но на возвратном пути отбирают у него и лошадь, и оружие. Нередко бывает, что многие ездят без позволения, в необходимых случаях, когда угоняют скотину. Тогда, не мешкая, выслеживают похитителя по разным приметам: по измятой траве или бурьяну, в лесу по сломанным сучьям; отобранное на посту возвращается по записке наиба.
Цидулы эти пишутся больше слогом арабским ученым, понятным не всякому, и скрепляются именной печатью наиба.
Простолюдины хотя не знают арабского языка, но необходимые молитвы понимают по переводу на свой язык. Даже некоторые выражения из Корана богобоязненный горец должен понимать. Мулла необходимо должен знать арабский язык, чтоб толковать Коран. Ученые муллы большей частью из сюлинцев; они-то и обучают мальчиков грамоте, школ же особенных нет.
До Шамиля не было этих наибов; в аулах были старшины и не имели большой власти; воровство было повсеместно. Часто один другого обирал всего, даже брал в плен и одноаульца и продавал его в дальний аул.
И теперь еще редко кто отойдет от своей сакли на несколько шагов без оружия. Чем кто больше имеет его, тот, значит, лучше умеет владеть им – вполне воин. Не имеющий оружия называется баба: сте-сенна. Женщины не носят его, но в Гильдагане, где я жил, была одна, постоянно носившая мужское платье; она даже исполняла мужские работы – пашню и покос. Случается, что вооружаются и они: это при нападении наших на аулы.
Гостеприимство считается у них первым долгом, и отказать в чем-либо просящему грешно и стыдно; но лицемерие, вероломство и сребролюбие – отличительные их черты. Гости со двора – начинают их судить и рядить. Чтоб не подать подозрений о склонности к воровству, как они выражаются сами, лично они ласковы. На слова их положиться нельзя. Он вас любит как брата, но шапка серебра – вы всё-таки гяур – и он отдаст вас в адские руки. Как прежде они делили с вами вашу тоску, сам плакал, смотря на вас, считал вас выше себя, целовал даже ваши руки, так после засмеется на ваши слезы и захохочет, как над ребенком, при вашем грустном взгляде при прощании с ним. Серебро тогда изменяет в нем все. Как красив он и строен, так точно и гнусен порой. Склонность ко всему прекрасному и скорый переход ко всему дурному поразительны.
* * *
Добрая нравственность поддерживается или прежним преданием старины, когда еще их понятия были девственны, или строгостью законов. Преступление наказывается или смертной казнью, или заточением в яму.
Это их тюрьма, где отверстие сверху. Туда заключают всех воров, если их отыскивают. Похитить что-либо тайно, или, как говорят, уметь схоронить концы, еще и теперь считается удальством; но открытый преступник наказывается жестоко. Укравший уходит в другое владение и живет там или у своих родственников, или знакомых. У воров для того знакомых много в разных аулах. Пройдет время иска, вор возвращается благополучно; иск ограничивается тогда взятием чего-нибудь из дома укравшего.
В ту же яму сажают и ослушников, кто не пойдет в караул, или в набег, или в работу для начальника, и держат там три или четыре дня. Туда же сажают и тех, кто не был в мечети в праздничный или недельный день, пятницу, нересман (перескан); если не хочет дать что-нибудь из своих пожитков, мюрид приходит в дом его и берет одну или две меры, смотря по вине, кукурузы, или пшеницы, или проса или берет серп, марс, или цэль (скребок для лущения кукурузы), вилы или косу, мангыль. Также старшего из семейства или из близких родственников бежавшего к русским. Сакля бежавшего сжигается, а его брат, или отец, или сын заключается на несколько дней, пока не передаст о себе бежавшему. Но возвращаются редко – и невиновный через некоторое время освобождается.
* * *
Многоженство, как по закону Магомета, позволительно; но редко кто имеет двух жен.
Вся домашняя ответственность лежит на женщине, как на рабе, и потому, чтоб не ослабить хозяйства и предупредить разврат, Шамиль хочет, чтобы не было ни вдов молодых, ни дев пожилых – монахинь. Девушке определено одиночествовать до пятнадцати, мальчику – до семнадцати лет. Пять или шесть мюридов от наиба ходят по аулам своего владения и ищут таких. Находят жениха, найдут ему и невесту, и если кто из них не согласен, того в яму; противника продержат до смерти. При согласии мюриды и домашние сговоренных начинают стрелять, чем подают сигнал к свадьбе. После делают приготовления к торжеству: богатый жених закалывает корову или быка и несколько овец; бедный – одного, много двух баранов. Невесте шьется рубашка, готовится платок или два. Дней через пять или через неделю старшие, мужчины и женщины, приводят невесту в дом жениха, и тогда молодежь начинает веселиться. Во все стороны сыплются пули из ружей и пистолетов, и чем более останется знаков на стенах, тем, значит, более приверженцев у молодого и тем краше его невеста. Повеселясь, начинают угощаться: в мирных аулах варят брагу (по-чеченски нэхэ, по-кумыкски буза); у немирных ничего этого нет, кроме одного съестного.
Прежде жених платил за невесту более десяти тюменей, что составляет сто целковых, разумеется, не все деньгами, а скотом и пожитками; нынче Шамиль ограничил и самих красавиц только тремя тюменями. В бедных местах, особенно близких к нашим, в разоренной Чечне, жених отдает отцу или матери невесты только три рубля серебром, остальное обещает уплатить впоследствии. Обещает иметь всегда на имя жены или лошадь, или пару волов и корову, или несколько мелкого скота, и если захочет продать что из этого или обменять, то без согласия жены не может; грех общий, если скотина эта падет или будет украдена.
Если жена не хочет жить с мужем, то лишается всего имения; разве муж даст ей для ее прокормления дочь, сына же только до его возраста; если же муж выгоняет жену, то отдает ей все принадлежащее; иногда мир присудит дать ей сына, если есть, разумеется.
* * *
Вообще женский пол не так красив, как мужчины. Напрасно многие прельщаются красотой этих дикарок: очаровательного я не нашел в этих куклах. Правда, они красивы, как картинки, но дикий взгляд, бездушие в чертах, с одной чувственностью и коварством в улыбке – не могут назваться идеалом. Нет того взгляда, как в лице скромной европейки, хотя не красавицы. Рожденные от рабынь, как весь женский пол – по закону Магомета, рабыни, лишенные прав, дарованных мужчине, как бы посредницы исполнений всех прихотей мужа, несчастные ищут уловки подышать свободой, стараясь угодить чем-либо своим властителям, – и вот с детства закрадывается в них лисья хитрость. Никогда муж не подарит своей жене веселой улыбки; редкий разделяет с ней трапезу; как раба, она покорна его взгляду и, как виноватая, во всяком взгляде его ищет себе приказания и ловит его малейшее движение. Никогда он не разделит с ней радости, и если рассказывает ей о своем наездничестве, удальстве и удаче, то не для того, чтоб удвоить свою радость, но чтобы более породить в ней к себе покорность. Этим фанатикам каждая нежность считается неприличной, и любовь к детям свойственна только матери. Никогда он не возьмет полелеять своего ребенка, никогда не полюбуется на него. Нет помощи от него и больной жене: это дело женское. Конь, ружье и шашка – вот его тоска душевная; пашня, посев и покос – забота житейская. Спросите его, каков его малютка, хорош ли, на кого похож или здоров ли – не узнаете ничего: он сошлется на мать.
Первый вопрос пленному они задают: «Есть ли мать?». О братьях и сестрах спросят редко, об отце еще реже. Если мать есть, то говорят, что не будет жить.
Такая рабская жизнь кладет на лицо их и отпечатки рабские. Никогда вы не увидите на нем сердечной тоски; если какая взглянет на вас мило, то это – взгляд только природы или мимолетное чувство, намек на совершенство. Любовь ее вероломна, слова – огонь. Подойдете – не останется в вас праху; покоритесь – она адски засмеется над вами.
Эти-то качества женщин поселяют к себе отвращение в мужчинах, которые, не расширяя своего ума далее пределов обыкновенных, представляют себе женщин созданными рабынями.
Если бы с молодых лет в этого прекрасного ребенка гор, где восприимчивость как бы трепещет, вдыхать всю жизнь европейца, то это точно был бы идеал совершенства.
* * *
Поучительным примером может служить безусловное почтение горца к старшим. Разительно чтят они память умерших.
Хоронят так: в могиле сбоку делается углубление, куда и кладется покойник; наискось заставляется досками, и потом уже могилу засыпают. Мертвеца обертывают в халат, концы которого завязываются на голове и ногах; когда опускают в могилу, держат над ней одеяло и под ним снимают этот холст духовные люди. По зарытии, мулла берет с могилы горсть земли и садится с ней читать молитвы из Корана; по жалобном прочтении рассыпает эту горсть по всей могиле. Ему подают кувшин с водой и лоскуток холста вместо полотенца: омыв и отерев руки, он берет холст себе. После того на кладбище начинается тризна. Если в это время кто проходит мимо, то или зазовут его, или же непременно вынесут ему порцию. К этому времен они пекут блины, делают беники (пшеничный хлеб) и сладкое тесто из кукурузной муки, перемешанной с маслом и медом и обжаренной на огне; мясо – необходимая принадлежность, все это режется на куски, хлебное – треугольниками, и раздается посетителям смертного места.
На могилах ставят памятники или деревянные, с шаром наверху, наподобие человека, или каменные. На последних вырезается вся принадлежность: женские – ножницы, очки, иглы и тому подобное; мужчине – все его одеяние и оружие, а богомольцу – кувшинчик и подстилку, на которую становятся во время молитвы, и четки. Над убитым от руки неприятеля становится длинное, конически обделанное бревно, с разноцветным наверху полотном, подобным байраму.
Когда идут на работу, заходят на кладбище поклониться праху родственника; с работы же, если с покоса – кладут клочок травы; а по уборке хлеба или при посеве сыплют на могилы зерна. Накануне пятницы или недельного дня они пекут блины, или делают сладкое тесто, или варят кукурузу и разносят это частями по родным и знакомым, прося помянуть покойного. Также в положенное время поминок закалывается корова или бык и разделяется между всеми, хотя и незнакомыми, если селение невелико.
Праздная жизнь горца не представляет собой ничего занимательного. В свободное от воинственных занятий время он совершенно беспечен; но, несмотря на всю свою бедность, он доволен собой. Редко он призадумается, и склонить голову на руку считается малодушием. Надежда на свою силу и проворство делает его разгульным, но не порождает в нем стремления к изящному. Или, по красоте самого места, он, упоенный дарами природы, не подвигает своего ума за пределы сил своих. Не видя ничего лучшего, он спокойно спит в своей берлоге и дико рыщет на залетном коне по диким гребням гор. В тумане проходят дни его, хотя солнце и светит светло и природа роскошно развернута под голубым небом. Ученость и искусства ему чужды; равно он смотрит на дикий рев воды, на тихий ручеек, на громадные снежины и на мягкий луг; страшный гул грома и могильная тишина ему одинаковы.
II
Назад тому пять лет отряд наш был в Большой Чечне, в Ичкерийском лесу или на хребте Кожильги, славным по битве как для нас, так и для горцев. В стычке при смешении шашек и штыков, с ударом моим по одному из горцев я был сдавлен и попал в руки неприятеля.
Меня отвели тотчас назад. Пройдя несколько саженей, мой пристав, который приписывал себе право победителя и поэтому законного владельца моей особой, уселся и посадил меня отдохнуть на срубленный чинар. Объяснив хозяину свою жажду, пошли мы к ручью и встретились со старухами из ближнего аула, спешившими за добычей. Всяк торопился, кто бежал, кто скакал. Из зависти ли к моему хозяину или от нетерпения положить хоть одного уруса, иной готов был пустить в меня пулю, наводя дуло; но хозяин, отстранив меня к скале и держа ружье наготове, ворчал против дерзкого; иной на скаку замахивался плетью, и одному удалось-таки ударить меня по плечу; с гиком: «Эй, гяур-йя!», повертываясь в седле, он ударял той же плетью своего коня.
Напившись и пройдя еще немного, мы сели с чеченцем, которого я сделался добычей: мои патроны и кремни были у меня отобраны; он спросил о деньгах, но не обыскивал на мой ответ. Отобрав, повел меня опять на ту поляну, где было побоище, и здесь передал другому; а сам, толкуя: «Брат, брат», пошел дальше. Вскоре толпа меня окружила, она несла напоказ все добытое на месте сражения; чеченцы веселились и заставляли меня играть на скрипке; я попросил нож и начал делать подставку; тогда внимательно смотрели все, повторяя часто: «Варда, варда». Вероятно, говорили, что я буду мастер делать арбы (грузинские телеги или арбы у них называются вардами). Кто бросал мне кусок сыскиля (кукурузный хлеб), но я просил беспрестанно пить – и помоложе кто, тотчас отправлялся с травинкой.
Прошло часа два, я все еще сидел с чеченцами около толпы. Русские штыки сверкали в глазах моих, а мой искривленный переходил из рук в руки. Меня позвали и подвели к носилкам, которые опустили передо мной, чтобы я осмотрел лежавшего на них раненого старика. Я сказал, что умрет нынче же к вечеру.
– Ну, неси.
Мороз пробежал по мне, я отговорился, что без хозяина не могу; но тут же подошел и Абазат (имя чеченца – моего хозяина), повторил слово «брат», и мы, подняв носилки, стали спускаться.
Несшие беспрестанно переменялись, а мне доставалось отдыхать, когда останавливались все; тогда они делили между собой сыскиль (хлеб из кукурузы), ломая его на куски и бросая каждому под свернутые ноги. Другому на моем месте показалось бы пренебрежением такое швыряние, но так ловил каждый из нашего круга. Закусив, прихлебнем водицей и опять идем. Смерклось; мы остановились ночевать; я, как невольник, тотчас отправился за хворостом, за мной присматривали только издали.
Ружье мое и сума были переданы верховому их одноаульцу, ехавшему домой сложить добычу и запастись хлебом, чтоб опять преследовать отряд.
С восходом солнца я стоял под чинаром, неподалеку от своих; прочитал все молитвы, какие знал, обновляясь жизнью; мне не мешали. Обогрелось утро, к нам пришла жена старика и сестра его; старик был еще жив, предсказание мое не сбылось. Поплакали и понесли опять. Сестра, так же как и я, шла не переменяясь; старуха шла позади молча. Я отдал молодой свой лоскут холста, подкладываемый на плечо под носилки, и она, отговариваясь, взяла его с веселой улыбкой. Наконец мы спустились совсем вниз, где приготовлена была для раненого арба; уложив больного на мягкую постель и подушки, сами мы пошли сзади. Дальше и дальше молодая развлекалась, поглядывая часто на меня сквозь слезы.
Не допросив как зовут меня, они дали мне имя Судар.
«Быть так!» – сказал я себе, когда Абазат, при переименовании, ударил меня по плечу. На мой вопрос, хорошо ли это имя, Дадак (так звали молодую, двоюродную сестру Абазата и родную больного Мики) улыбкой подтвердила мне. С той поры все время я слыл под этим именем.
Не удалось мне слышать такого имени между ними, и сколько ни расспрашивал, говорили, что такое имя есть; мне же оно казалось почетным названием: хозяева, прежде мирные, вероятно, не раз слышали между нашими слово сударь. Как бы то ни было, Судар был встречен горцами как сударь.
* * *
Больной изнемогал, его положили на сани. Дорогой рассуждали обо мне, это было понятно, когда поглядывали на меня. Наконец один из чеченцев спросил меня, умею ли я косить, показывая на траву и махая руками; я отвечал, что учился только писать, но могу привыкнуть и к этому. Я толковал и так и сяк, говоря:
– День, два, три – там буду мастером на все.
Все были довольны.
Скоро показался аул; горцы обратились ко мне со словами: «Гильдаган, Гильдаган!» – так звали наше селение, когда мы пришли к саклям. Начали сбегаться все родные и знакомые, начался плач. Я вошел было следом за ними, но мне показали другую саклю. У семейства, которому я принадлежал, было три сакли. Горцы обыкновенно располагаются таким образом, что сакля самого младшего брата строится между саклями среднего и старшего; последняя приходится с левой стороны, следовательно, сакля среднего брата будет справа от младшего, моего горца. Там меня встретила девушка Хорха, сестра моей хозяйки Цапу, жены Абазата. Обменявшись салямом, я сел у стены на завалину. Со двора послышался зов; Хорха, выслушав приказание, тотчас поставила передо мной как-то оставшиеся куски сыскиля с биремом (горцы, когда время пищи, тогда только и стряпают; куски остаются редко. Все это делается по мере. Бирем – давнишнее квашеное соленое молоко, беспрестанно разводимое то водой, то молоком, с приправой соли; кадушка стоит круглый год. К сыскилю подают в небольшой чашечке этого бирема ложки три).
Не прошел час, как вдруг поднялся сильный рев и крик: старик умер. Девица была без чувств, любя Абазата, зная тоску его; пришел Абазат и, ударившись в стену, начал плакать. Было не до меня, я вышел вон.
Умерший старик Мики заменял им всем родного отца. Место старшинства в фамилии занял родной брат умершего, Ака.