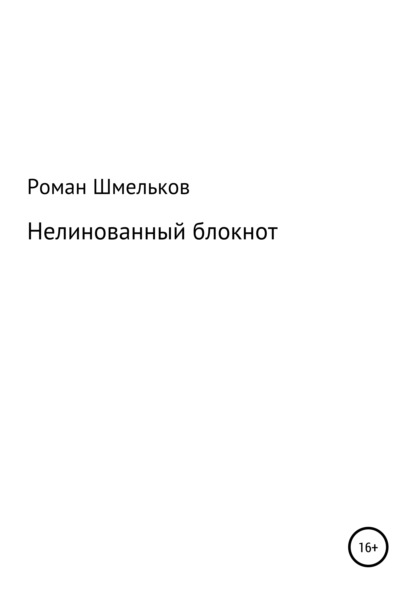По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нелинованный блокнот
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После минутной паузы, видимо отвлекшись от мыслей о ветках, Игорёк вскинул бровь.
–А еще Игорёк строитель! Построю баню, а потом приезжаю через пять лет, а все говорят, Игорёк ты настоящий строитель. Ты же сто раз отмеришь и можешь даже не отрезать. Стоит, на века. Вот такой Игорёк!
По приезду Игорёк шустро отнес арбузы за калитку и приторно вежливо попрощавшись, пошел к машине. Краем глаза я видел, как он захлопнув багажник, сел за руль и уже тронувшись, опять вскинул без слов руки изображая губительные ветки.
08.08.2016
Кошка в коробке.
Сворачиваюсь калачиком в коробке из-под планшета. Коробка изумительно хороша и расположена высоко на книжной полке. Устраиваюсь так, что бы один глаз, слегка выступал за краем картонного бортика, поворачиваю ухо в направлении двери. Вздыхаю. Теперь все хорошо, все под контролем. Солнечный луч, наполненный прозрачной пылью, медленно ползет по столу, тяжелый, плотный, переваливается через толстую книгу «Астрофизика». На кой она понадобилась моим уркам, ума не приложу, больше прогноза погоды ничего не читают, впрочем, это не важно. Почему урки? Потому что мы так их называем. Вы, наверное, слышали, когда кошка спрыгивает на пол, раздается характерный «урк», так вот это оно и есть. Урк, или привет урк.
Мои урки вполне сносные. Немного беспокоит самый мелкий из них. С ним нужно держать ухо востро. Может незаметно подкрасться, и если уж зазевался, будет тебя носить по всей квартире. А это не то чтобы неприятно, а скорее унизительно. Свисаешь с руки словно полотенце официанта. Бр-р-р. От этих мыслей сводит мышцы. Пытаюсь потянуться, но лапы упираются в бортик коробки, приходиться перевернутся на спину и вытянуть их струночкой к потолку. Наблюдать за миром вверх тормашками даже интересней. Всю дорогу отвлекают блестящие пылинки в луче света. Они шевелятся! Их движение словно передается шкуре, по боку пробегает нервная волна. Фуф, хорошо, так о чем я?
Если кого удивит столь долгий монолог кота, то извольте, мы еще и разговариваем, как и все живое вокруг. Да нет! Я знаю, что наиболее продвинутые урки предполагают у нас не только разум, но и наличие души, (не бессмертной, как у них), но все же. Они ошибаются. Это сложно объяснить. Разум у кошек конечно индивидуальный, но не во всем, это скорее надстройка, а вот душа у нас у всех общая. Я несу в себе жизни и память совершенно всех котов, живших до меня, начиная с первого Пракота, и если сильно напрячься, могу с точностью вспомнить все, что происходило тысячи лет назад. Впрочем, напрягаться мне не свойственно, я и без этого могу предположить, что, к примеру, делал храмовый кот великой пирамиды Хуфу. Метил углы.
Зеваю, отчаянно и широко. В поле зрения попадают выставленные вперед усы, попав в луч света, они сверкают серебром. Это зрелище завораживает, я даже отвлекаюсь от пылинок.
Некоторые урки полагают, что они наши хозяева, другие же допускают, что все как раз наоборот. И те и другие неправы. Наши связи образуются помимо нашего желания и не являются случайными. Это вполне осязаемые золотистые нити похожие на луч света на столе, ими опутано все мироздание. Есть широкие слепящие светом магистрали, мимо которых невозможно пройти, но есть и едва заметные блеклые тропинки, куда заглядывают нечасто. Они соединяют урков, животных и всевозможные точки пространства. Урки их не видят, но ощущают, и когда кто-нибудь говорит: «Вон кот пошел по своим кошачьим делам», он даже не понимает, насколько мудрую вещь произнес! Впрочем, главное, всегда спрятано на самом видном месте. Вопрос угла зрения. А угол зрения у меня сейчас вверх тормашками.
Луч солнца поднялся выше и почти добрался до коробки. Здесь я вдруг замечаю зажигалку, кто-то оставил ее возле томика Фукидида. Искрящаяся связующая нить некрасиво выгнулась, огибая красный кусочек пластика с надписью Cricket. Я чувствую почти физический дискомфорт, это заставляет меня перевернуться. Потолок с полом меняются местами. Так тоже можно! Вытягиваю лапу и осторожно скидываю зажигалку на пол. Оп! Теперь все хорошо и гармонично! Вот и ладушки! Кстати, c Фукидидом я знаком лично, у него тоже был кот. Всегда удивлялся, зачем урки постоянно трактуют Закон в своих книгах. Этим они здорово отличаются от нас. Закон не нужно объяснять или трактовать, им нужно жить. Если на подоконнике ходят голуби, хвост распушается сам собой, по шкуре идет мелкая рябь похожая на озноб, и тело выгнутой пружиной кидается на окно. Я знаю, что впереди стекло, догадываюсь, что птицу не достать, мало того, я даже не хочу есть, но таков Закон. Я не думаю об этом, потому что я и есть часть Закона. Такие вот пирожки с котятками. Если рядом большие ноги урки, я трусь о них и получаю от этого удовольствие, опять же, не потому что мне этого очень хочется и уже точно не по тем причинам, о каких урки пишут в своих умных книгах, а потому что так велит Закон. А он говорит о том, что все живое стремится к ласке и теплу, а видя мелкое, пытается его убить. Ну а если что-то неясно, то лучше всего спрятаться, например в коробку. На всякий случай.
Идеальная коробка должна быть немного меньше тебя, так удобнее сворачиваться и чувство защищенности значительно выше. Если бы я был другим зверем, то вероятно стал бы улиткой или черепахой. Это так удобно. «Коробка, которая всегда с тобой». Ха! У старика Хэма, кстати, тоже был кот. Одним словом, коробка это важно!
Если у вас создалось впечатление о том, что мне не свойственны сомнения, это не так. Иногда, привяжется какая-нибудь паскудная мыслишка и скребется, и скребется между ушами, так что от нее не отвяжешься, только трясешь головой, да пытаешься раз за разом смыть ее лапой. В такие минуты меня беспокоит, а не является ли квартира Урки его большой коробкой, и что более странно, нет ли у него своего Закона и своих невидимых мною путей. На это мысли я, как правило, отвлекаюсь, слишком все становится запутанно.
Впрочем, звонок в дверь. Пулей лечу из коробки на пол. Пружинисто выпрямляюсь.
– Урк!
26.03.2018
Балаш-на-Пехорке
Первым и самым важным делом, конечно, выяснить, где в слове Балашиха ставить ударение. Местное население придает этому большое значение, сравнимое по важности с указанием направления – «на или в Украину», поэтому я не поленился найти этому оправдание. Первичное ударение было на второй слог, но в виду неудобства такового при использовании прилагательного «балашихинский», а также в связи с частым упоминанием района, было принято решение использовать ударение на третий слог, на чем и сошлись. Кем и когда было принято данное правило, история умалчивает. В любом случае, о прилагательном, как о причине разнотолков, все забыли. Один из вариантов этимологии слова Балашиха, – «балаш», восточный постоялый двор, что-то вроде караван-сарая. В глобальной сети пишут, что на реке Пехорка была мельница, занимавшаяся поставками муки к царскому Двору, рядом и располагался вышеупомянутый балаш.
Оказавшийся в этом «балаше», я вдруг начал тосковать по прежнему месту работы. Это стало для меня полной неожиданностью. Я никогда не думал, что начну скучать о Шоссе Энтузиастов, старой промзоне, Владимирскому пруду, светящейся надписи «Ретиноиды» на кирпичной стене, лохматым собакам, спящим на газонах. Не так давно вдоль пруда установили светодиодные фонари, дорожки вымостили плиткой, возле воды поставили бетонные скамейки, – все это вызывает во мне ноющее чувство зависти, словно я оставил где-то новенький пиджак, и теперь его носит незнакомый мне человек. Он идет вдоль Владимирского пруда и даже не догадывается, что это вовсе не пруд, а речка Нищенка, которая петляя под землей, ненадолго появляется на поверхности, давая приют рыбакам, чтобы вновь нырнуть вместе с крысами в бетонную трубу ближе к улице Плеханова. Он не знает, что на переезде возле будки обходчика в августе цветут
(отвратительные розовые мальвы, которые мелко дрожат, в тот момент, когда груженый состав, пересекая улицу, втягивается в распахнутые складские ворота. Он не знает ничего, он просто идет и пишет свою историю, в которой совершенно нет места для всего того, что было важным для меня.
Вернемся в Балашиху. Я не хочу случайно задеть чем-то проживающих здесь людей и обязательно выучу правильное ударение, но скорее всего, буду пользоваться сразу двумя, одно для дома и одно для балашихинцев. Балашиху я не знаю, и очень мало шансов, что когда-либо узнаю. В данный момент я пишу лишь о той ее части, где сразу за развязкой и мостом город перестает быть городом, но еще не становится деревней. Самая дальняя точка, которую я невольно посетил, (заснув в маршрутке) – это остановка «Горсовет». Справа чистое поле, за лесом церковь и новостройки, слева сталинские дома и судя по проводам начало цивилизации, где-то там за шумовыми экранами трассы по слухам и располагается центр города. Для меня это что-то вроде гипербореи,– обитаемая и загадочная земля.
И так, мое нынешнее место работы, это окраины Московской промзоны переплетенные с окраинами Балашихи, и не являющееся ни тем и не другим, это словно ничейная территория, плевочки цивилизации, замерзшие вдоль нитки Шоссе Энтузиастов. Смешение всего и вся. Это и безжизненные стеклянные авто-центры, с огромными логотипами брендов и деревянные одноэтажные столовые с пыльными занавесками, и серые эллинги складских помещений, и частные дома наглухо закрытые заборами. Эти дома родом из другой эпохи, они словно попали в селевой поток новой жизни, грязная мешанина из торговых центров, KFC, заправок, магазинов, офисных центров накрыла их уютные мир, обошла со всех сторон и утвердительно застыла. Из-за высоких заборов еще видны яблони и кусты сирени, из печных труб поднимается вертикальный дымок, но дни их сочтены, и мир никогда не станет прежним, а тот, что остался в их памяти, давно отравлен и медленно отступает, к темнеющему за гаражами лесу.
Этот лес я вижу из офисного окна, над ним словно шмели постоянно гудят вертолеты и кажется, что идет погоня, за кем-то невидимым внизу. Под самыми окнами белые плоскости складских крыш, парящие трубы вентиляций. Между ними дворники убирают снег. По моему мнению, только выходцы с юга уже по факту своего рождения, недолюбливающие мороз, могут в разгар снегопада, скрести крышу до самого рубероида. В этом деле наши дворники более философы, нежели работники. Выглянет такой из-за двери каморки, залюбуется снежинкой, беззлобно матюгнется, и скроется в проеме, ибо кому оно нужно, само растает.
Единственный мостик между двумя берегами шоссе на протяжении нескольких километров, высокий железобетонный переход. Внутри он напоминает то ли трубу для хомяка, то ли вход в иное измерение, причем не менее гадкое, чем это. С снаружи прозрачного выгнутого поликорбаната частично съехал грязный снег, через прорехи пробивается свет, рассеченный сотами пластика на блеклые полосы. В центре перехода, обычно, черная фигура «нищенки», укутанная в платки до такой степени, что производит впечатление нэцкэ из темного дерева. Возле перехода расположено старое кирпичное здание с вывеской ГИБДД на крыше и выцветшей надписью по фризу: «Служа закону… надпись прерывается окнами, (в одном из них тетка поливает цветы)…Служишь народу».
Вообще, здесь в основном преобладают нахальные, броские вывески с уклоном в иноязычность, они словно стесняются русского языка, что делает их ужасно провинциальными. «Луидор», «МойБери», «БорисХоф». Логотипы полны геральдики, а слоганы важности, объединяет их одно, явное отсутствие чувства юмора, ибо достаточно просто оглядеться. Между ними на подобии сарайчиков ютятся лавочки с набором обычного сельпо и всевозможные мастерские по ремонту автомобилей. Одним словом, в одном месте скопились и тяжеловесы автопрома, завязанные на удобной логистике и мелкие лавки, выдавленные арендой из жирной Москвы и частные хозяйства, и даже одинокий высотный дом, нелепо торчащий возле платформы «Стройка».
«Стройка» – это маленькая станция Горьковской железной дороги, она имеет только одну платформу и электрички здесь останавливаются с большим интервалом. Она столь не интересна РЖД, что на ней отсутствуют даже кассы. Во время проверки, не имеющие билетов, на вопрос: «Откуда?» – обычно смутившись, говорят: «Со стройки» – и контролеры сочувственно кивают без тени осуждения. Если подойти на платформу чуть раньше, чем это делает основной поток офис менеджеров, здесь можно застать только пьяниц, сюда их привлекают деревянные лавки и свет фонарей.
Электричка – время для чтения, и я запоем читаю подаренную на день рождение книгу Водолазкина. Смотреть в окно совершенно не хочется, выхваченные светом железные конструкции, цепочки огней и снова темнота, – вот и весь предмет наблюдений. Мне все время кажется, что стоит ошибочно выйти на каком-нибудь темном полустанке, в получасе от Москвы, и, наверное, тут же погибнешь от одиночества и темноты. Поскольку я еду железной дорогой только в обратном направлении, – это превратилось в одно затянувшееся возвращение. Я снова и снова встречаюсь с любимым городом, словно после длительной разлуки, и каждый раз переживаю радость от обилия освещения и людей. К Курскому вокзалу электричка подъезжает практически пустой, прочие пассажиры выходят раньше в Реутове, Новогиреево или на «Серпе и молоте». На перроне же нас встречает плотная толпа, желающих выбраться из Москвы, так что постоянно нахожусь в противоходе. Это делает жизнь несколько отстраненной, что меня вполне устраивает.
Чудесная вечерняя Москва! Пар из распахнутых дверей электрички. Запахи шаурмы и лаваша. В черное небо запускаются светящиеся вертолетики, бабы в чудовищных мохнатых шубах снуют с палками колбас, на лотке кипит торговля книгами. Здесь вопиющая эклектика: «Омоложение лица серебряной ложкой, эффективный самомассаж», «Гиперпространство», «История России», «365 поз на каждый день», Кинг соседствует с Бродским, а Стивен Хоккинг с Бхагван Шри Раджниши. Чтобы попасть в тоннель метро, нужно заранее обогнуть лоток с книгами как можно левее и придерживаться стены, дабы не попасть под ноги плотной толпы идущей со станции Чкаловской. Я дома.
25.01.19
Тётёля.
Бабушка Ольга, тетя Оля, Тётёля некоторое время жила в коммуналке в доме на Аргуновке. В комнате стоял огромный комод с резным купеческим зеркалом. Амальгама по краям шелушилась маленькими овальными пятнышками. На комоде стояли фарфоровые слоники и давно пустая бутылочка «Красного Мака» в коробочке с кисточкой. Слоники шествовали куда-то по вязаной салфетке, а коробочка удивительным образом распространяла стойкий запах старой Москвы. На стене висела огромная фотография дирижабля «В-6» в тонкой мельхиоровой рамочке и портрет деда Константина погибшего при попытке спасения Папанинцев. Самым привлекательным в комнате был холодильник – железный ящик, выставленный в окно. Там можно было прятать что-то важное у всех на глазах. В детстве мне казалось это захватывающим. На кухне была старенькая плита, которую вечно приходилось отмывать за соседом алкоголиком. Когда Тётёля готовила яичницу, это был настоящий ритуал. Разбив яйцо, она старательно выскребала остатки стекающего белка маленьким круглым ножичком, и даже заглядывала внутрь, словно ожидая увидеть там нечто удивительное. Возле кровати в углу стоял узкий дубовый шкаф со стеклянной дверцей. Были полки, куда лазить не разрешалось, там, в полумраке поблескивали фарфоровые статуэтки, но были полки, любопытство к которым поощрялось. На самом почетном месте располагалось полное собрание Диккенса в пыльном зеленом переплете, которого Тётёля боготворила и перечитывала в тысячу первый раз. На боковой стороне шкафа была привинчена лампа, которая нависала над изголовьем. В ней вечно что-то отходило, тогда Тётёля звонила мне, я приходил, бил кулаком по стенке шкафа, что-то трещало, и лампа зажигалась. Считалось, что я её починил. В ее теплом свете мы частенько перекидывались в картишки. «Дурочка» не гоняли, признавался только «Пьяница». Выигрывая, я всегда радовался, что бабка пьяница, с чем она скорбно соглашалась, в тайне подпихивая мне тузов.
Личной жизни у нее никогда не было. Из фотографий я помню только довоенную в Ялте на пляже и крошеную карточку молодого капитана с осиной талией и бутоньеркой в петлице датируемую 1916 годом.
-Ошивался какой-то.
Тётёлю разбирали на воспитание детей. Она воспитала совершенно всех. Позже уже на кладбище, мы пытались посчитать, скольких она взрастила. На восемнадцати сбились. Не самым последним воспитанником была и моя родная бабушка Катя. Так как она была самая мелкая в семье, Тётёля называла её Тапка.
Когда она стала стара, а стара она была всегда, как мне казалось, она переехала к нам. В новой комнате она моментально воссоздала прежнюю, с расположением комода, шкафа и даже лампа, повешенная на кривой шуруп все также барахлила и требовала мастерского удара кулаком. Тётёля была ласкова, но не сентиментальна. Воспоминания ее были едкими и точными. Любила рассказывать про то, как видела государя с дочками в открытом ландо, которые ехали на Виндавский вокзал. Тогда у прадеда был обувной магазин с комнатами на углу Трифоновского и 1-й Мещанской. Заканчивала неизменно рассказом о наглом, с её точки зрения, просителе, кинувшемся с челобитной под копыта лошадей.
– Его голубчика наши казачки, быстренько под белы рученьки унесли.
Такое развитие событий ей почему-то казалось совершенно справедливым. Почему казачки наши, тоже было непонятно.
В военные и довоенные годы Тётёля работала на коммутаторе в старом аэропорту. Кто-то из летунов ухажеров предлагал ей покататься на «Максиме Горьком», не смотря на то, что в те годы это был самый известный самолет, она ему не доверяла и называла «большой железякой». Дальнейшая судьба самолета только утвердила ее в мысли, что она поступила осмотрительно. В тридцать девятом году ей запомнилась встреча с Риббентропом. Перед посадкой в аэропорту соблюдался режим секретности, так, что даже занавески в столовой персонала просили задвинуть. Тётёля была любопытна и сбежала на летное поле. Там нос к носу наткнулась на делегацию в черных цилиндрах. Каждый раз, рассказывая о самолете со свастикой на хвосте, она делал упор именно на цилиндрах.
Тётёля иногда любила бравировать возрастом. Как-то раз она послала меня в магазин.
– Пойдешь в начало Королева мимо пруда, там где твой отец любил купаться.
-Тётёль, там нет пруда!
-Ещё бы, его засыпали перед войной!
Кажется 22 июня, когда по всем каналам шли фильмы про войну, Тётёля смотрела на старом ламповом Рекорде, какую-то драму. Она внезапно откинулась на стуле и мечтательно сказала: «Боже, какой был энтузиазм, подъем, мы с отцом пошли в чайный лабиринт Сокольников, заказали самовар, все радовались, пели «Боже Царя храни». А ведь началась война!».
У меня отвисла челюсть, и я неуместно спросил: «Какая???!»
Тётёля осклабилась: «Какая-какая, такая, Первая мировая!».
В сто четыре года она вдруг решила оформить инвалидность и жутко смутилась тем обстоятельством, что в момент прихода окулиста сидела с томиком Диккенса без очков. Окулист с порога спросил: «Сколько?» Тётёля ответила, молодясь: «102»! Врач шлепнул печать и ушел.
Тётёле я обязан частыми гуляниями в Останкинском парке. Где-то до сих пор валяются фотографии, где я сижу на льве при входе в усадьбу.
Она научила меня читать. Помню, что дойдя до буквы «К» в букваре, я гордо сказал ей: «Дальше не надо, я умею». Каким образом так получилось, до сих пор не ясно. Но самое главное я обязан ей этим уходящим теплым ощущением старой московской семьи, картишкам в желтом свете лампы, спокойной уверенности, чтобы ни было в темноте за окном, пока я нахожусь в круге этого света все будет хорошо, и бояться совершенно не стоит.
03.08.16
Соло для минусовки