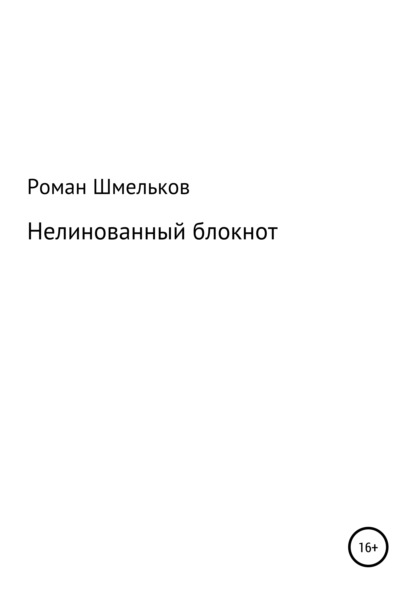По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нелинованный блокнот
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нелинованный блокнот
Роман Шмельков
Если долго живешь в одном районе, то начинаешь замечать странные детали, несоответствующие общему облику окружающего. Они то появляются, то исчезают, чтобы вновь всплыть в самых неожиданных местах. Сборник рассказов и заметок.
Роман Шмельков
Нелинованный блокнот
Рыбак
Когда долгое время ходишь на одну работу по одному маршруту начинаешь привыкать к прохожим. По одним можно сверять время, не доставая телефон из кармана, о других интересно строить всяческие догадки. Кто они? Чем занимаются? Почему сегодня опаздывают? Третьим можно даже кивнуть.
Во всем это разнообразии всегда есть люди, которые незыблемо вписаны в пейзаж, и являются его частью словно лица президентов на горе Рашмор. Они никуда не спешат и являются как бы статичным маркерами или бакенами, пролетая мимо которых, начинаешь ощущать бессмысленность суеты.
Для меня это рыбак на Владимирском пруду. Фигура крайне колоритная, несмотря на то, что лица его я никогда не видел, но всегда чувствовал, что его тяжелый взгляд подобный эхолоту устремлен, куда-то вниз под плотную ряску. У него крохотная для его сложения голова, узкие плечи, которые U-образно направлены в сторону воды и огромный несоразмерный зад, под которым даже не угадывается складной стульчик. Весь он подобен конусу или пирамиде основательно вросший в илистый берег и напоминает фигуру с острова Пасха. Он никогда не двигается, и жив ли он, сказать весьма сложно.
Мне все время кажется, что не будет ни страны, ни города, ни меня, а он так и будет сидеть, весь покрытый мхом и грибами. У основания его ног все также будут покачиваться горлышки пивных бутылок, а между ними сновать водомерки, оставляющие легки круги на маслянистой поверхности воды.
13.08.2015
Чайтанья
Косо метет мокрый снег, липкий тяжелый, так метет, что выбивает остатки цвета из окружающих предметов, и нет ничего кроме черного и белого, только желтая труба газопровода на стене. Она петляет вдоль щербатой кирпичной кладки, взбирается вверх, огибая окна, опускается до уровня подоконников, перепрыгивает на соседние дома, направляя к переходу, ведущему в главный вход Ботанического сада к белой сторожевой башне с магазинчиком «Цветы». За чугунной оградой, едва заметна бойлерная или трансформаторная будка с узкими бойницами под самой крышей, какие бывают в общественных туалетах. Стена, обращенная на восток в сторону Марфинской шарашки, расписана граффити, в котором с трудом читается «Чайтанья».
– Хари ом тат сат! Бог есть истина.
Если выйти рано утром, можно увидеть, как в бойлерной открывается тяжелая железная дверь, и на заваленную снегом дорогу выходит Джанговар со скребком в руках в ярко желтой спецовке. Узловатая коричневая рука, уверенно сжимает черенок лопаты, словно это не черенок вовсе, а старое копье и цвет руки сливается с темным отполированным древком. Каждый день он расчищает тропинку от порога «Чайтаньи» до скульптуры графа Шереметева. Женоподобная фигура в буклированyом парике нелепо торчит из сугроба, выставив ножку в менуэтном па, к пухлой ляжке приникла борзая, похожая на овцу. Закончив работу, Джанговар стоит возле белого графа, облокотившись на лопату, и порывы ветра доносят тихий разговор на фарси. Мокрый снег нещадно облепляет крашеный бетон. Черты изваяния кривятся, шевелятся, шея постепенно утопает в плечах, собака растет на глазах, и вот уже кажется издалека, за завесою снега – маленький человечек с копьем в руках, стоит возле огромного Йети с лохматым медведем.
–Как же ты оказался здесь, дядя Джа?
Он удаляется по аллее в сторону пруда. Хрупкая фигура, то скрывается за пеленой снегопада, то снова появляется, словно звук колокольчика.
Так метет, что выбивает остатки цвета из окружающих предметов, и нет ничего кроме черного и белого, только желтая труба газопровода на стене и желтая спецовка дяди Джа, больше нет цвета ни в чем.
На берегу пруда, возле громадного разлапистого маньчжурского ореха, отполированного задницами детей в нескольких поколениях, того самого которого в Останкино называют «лазательное дерево» Джанговар останавливается. Хари ом тат сат! Он достает из кармана желтую ленточку, привязывает ее к корявой ветке, похожей на палец старика и долго молчит.
И нет ничего кроме черного и белого, только желтая труба газопровода на стене, желтая спецовка дяди Джа, и желтая ленточка на ветке.
Вечер. Сидя на заснеженной лавочке, пьем кислое вино из горла.
– Как же ты оказался здесь дядя Джа? Как тебя сюда занесло?
Он улыбается: « Это мое дерево, понимаешь? Нимай. По-вашему, дерево Жизни, ты видел его плоды? Здесь был Райский сад». Он снова задумался, и скосил желтый гепатитный глаз в сторону кофейной палатки. Я поперхнулся, вино залило воротник.
– На месте Ботанического сада, Райский сад?!!!
– Да.
– Дядя Джа, а ты часом не читал Пелевина?
– Нет, а кто это?
От удивления ставлю бутылку в сугроб. Молчим. Зажигаются фонари. Вино подергивается тоненькой корочкой льда, она покачивается на поверхности и раздается тихий звон словно отзвуки колокольчика.
30.03.18
Шаги.
Ключ длинный, сантиметров двадцать, с хитрыми бороздками разной высоты, черный от старости. Вставляю его в заплывшее краской отверстие и поворачиваю. Кхег-клац. Звук совсем как у затвора винтовки. Теперь еще раз до упора. Кхег-клац. Патрон в стволе. Еще нужно снять никелированную цепочку с английского замка. Массивная дверь открывается со скрипом. Отмечаю про себя, что скрип это хорошо! Это значит, что «отсек» задраен туго и течь не даст. Делаю шаг вперед, пока только один. Светлая лестница с высоким окном. Вначале режет глаз, потом привыкаешь. Воздух серый, густой от пыльной взвеси, потревоженный дверью, он кисельно вздрагивает в луче света, и крохотные блестящие песчинки испуганно шарахаются в сторону. На глубоком подоконнике маленький садик с жухлыми фиалками, ваза сухоцветов, старая гавайская гитара с двумя струнами, коньячная рюмка набитая окурками, под окном глубокое кресло. Время остановилось.
Лестничная клетка, – важная часть моей квартиры, вернее сказать ее продолжение или если хотите барокамера, где можно немного посидеть, выровнять давление перед выходом в город, привыкнуть к навязчивому шуму и гулким шагам на лестнице. Впрочем, вся эта жизнь происходит ниже, а здесь наверху она заканчивается, упираясь в заколоченную соседскую дверь и чердачный люк над головой. Курю, развалившись в продавленном кресле, и думаю об удобстве выхода на черную лестницу. С Малой Бронной доносится трель отбойного молотка, грохот компрессора и скулеж скорой. Тяжелая ватная муть городского шума постепенно обволакивает. Нужно идти.
Лестничный марш это десять ступеней, – десять шагов. Четыре марша – сорок, но сейчас я их не считаю, – ходьба по лестнице похожа на перемещение по вертикали, чем-то напоминающее полет. На плоскости все проще, – есть икс, игрек, здесь же в систему координат вплетается новая величина, отвечающая за высоту этажа, и все путает. За пределами квартиры лестница это единственное место, где я не считаю шаги и уверенно «лечу» вниз.
От подъезда до арки, выходящей на Спиридоновский, двадцать пять шагов. Не могу вспомнить, в какой момент старый двор превратился в эту сплошную стоянку, иногда мне кажется, что это произошло всего за одну ночь. Какой-нибудь ураган, вроде того, что унес домик Элли из Канзас-сити, принес к нам оттуда еще и все эти машины, вместе с их чертовыми водителями, детьми и уродливыми Татошками. Насчет Канзаса, я, конечно, не уверен, но то, что они не отсюда, в этом не может быть сомнений. Вместе с ними во дворах повсеместно появился асфальт, бетонная плитка, оранжевые шлагбаумы в арках, системы слежения и боевые лазеры, странные газоны с неестественно изумрудной травой, а самое странное, осенью стали исчезать листья, их стали куда-то уносить в черных мешках.
Куда пропала теплая лысая земля московских дворов, отполированная, до блеска поколениями жильцов, лоснящиеся коряги тополиных корней, по которым было так здорово скакать на велосипеде?! Куда подевались мохнатые всесезонные дворняги с умилительными мордами?! Двор наводнили твари вышедшие из ада: коротконогие, морщинистые, складчатые, лысые, лупоглазые, словно соревнующиеся в чистоте уродства. Чертов Босх! Чертов Канзас! Чертов Миссури! Лавируя между машинами, выползаю из арки на Спиридоньевский. Двадцать пять шагов. Когда я последний раз был на улице? Вроде бы еще лежал снег. Хотя он лежит каждый год. Не знаю. Думаю, это было давно.
Теперь налево – двести шагов до «Ароматного мира». Мимо отеля «Марко Поло» и кондитерской «Санта Клара». Чертова Италия! Иду и злобно ухмыляюсь. По «Волго-Дону» он сюда приплыл что ли?! Буратина иноземная! Волоками? Бурлаками? Перехожу Малую Бронную. Ага! «Полаццо-Марко-Поло-ВЦСПС»! Кстати, «Санта Клара» настоящее имя «Ниньи», так что может быть тут еще и Колумб бывал… Последнее время это мой самый длинный маршрут, но все же возвращаясь, можно заглянуть в продуктовый полуподвал «Нефритовый лес» на другой стороне. Когда-то я специально погуглил, что это значит, и вот что нашел: «Нефритовый лес – зона расположенная в восточной части Пандарии, граничащая с долиной Четырех Ветров на юго-западе и вершиной Кунь-Лай на северо-западе. Нефритовый Лес единственная локацией на полуострове Адского Пламени в Запределье». Меня вполне устроило это пояснение. Угу. Запределье! Оно мать его и есть, сразу после Адского Пламени. Как в воду глядели, игроманы хреновы. Продуктовый – это дополнительные тридцать шагов, единственный источник закуси поблизости от арки. Спешу нырнуть назад во двор, с бутылкой перцовки и супами «Подравка». Отличный улов. Сижу в своем кресле, любуюсь игрой табачного дыма в неярком луче света, пробивающимся сквозь мутное стекло. Разглядываю шикарного блестящего петуха на суповой упаковке и пытаюсь вспомнить, когда все это началось…
А началось это не в девяностые, когда по Москве стали расти как грибы после дождя странные шалманчики, палатки и ломбарды. Не в две тысяча пятом, когда появились все эти дикие вывески, а внутренности домов стали вынимать вместе с их жильцами, запихивая в пустые аквариумы привычных фасадов, какое-то совсем иное содержимое, с которым я не чувствовал ни малейшей связи. Все началось значительно позже с резидентного разрешения на парковку. Да, именно тогда. Не более пяти лет назад.
У меня тогда еще был старенький белый Рено. Парковка на Малой Бронной составляла что-то около двухсот рублей в час, но за квартирой было закреплено бесценное право на бесплатную парковку возле дома. Право это нужно было ежегодно отстаивать, подобно тому, как до недавнего времени доказывали инвалидность, поднимая всевозможные документы вплоть до «Государева родословца» и паспорта кота из ветклиники.
Прусская бюрократия, замешенная на русском мистицизме и революционном футуризме, извергла из себя чудовищные по силе заклинания: МФЦ, БТИ, ГиБбД, ОНИЛ, МГРХ, ТРБ, СНИЛС. Каждая буква – гвоздь, заколачиваемый в остатки здравого смысла. Вначале, когда государство с человеческим лицом, (вернее, той его малой частью, что отвечала за человечность), выделило право на бесплатную парковку, оформление документов занимало всего день, на другой год – два, в последующие – шесть дней. Мать его! Целых гребаных шесть дней! Почти неделю, я ходил как на работу, собирая бесконечные формы, разрешения родственников, и кланялся, бесстрастным теткам в окошках, время от времени извиняясь за забытый паспорт или очередной акт за номером с шестью нулями. Тот, кто сказал, что человечество движется по пути создания искусственного интеллекта, просто не был знаком с российским делопроизводством. Это самый настоящий, бездушный искусственный интеллект. Этакая инфернальная машина, воспроизводящая пароли на текущий день, чтобы возле передовой тебя случайно не грохнули свои же.
Добыв уникальный номер безопасности, доставшийся мне от моей же квартиры, я брел по Большому Палашевскому и размышлял: «Если у объектов собственности прав значительно больше, чем у их владельцев, то нужно загнать машину в лес с наслаждением завалить ее камнями, ломая ногти, закидать лапником. Получится прекрасный холмик, поросший опятами». Кажется тогда, на перекрестке Палашевского и Козихинского я и начал считать. В тот день получилось триста двадцать шагов, триста двадцать спасительных шагов. Тяжелая бессмысленность дня, необъяснимая искусственность событий, мешанина аббревиатур в голове и какие-то плоские фигуры людей на фоне макетов знакомых домов уверенно гнали меня в подъезд, назад к спасительной реальности.
С этой минуты выходя во двор меня, не покидает ощущение, будто к спине пристегнут резиновый канат бейсджампера, что надевают перед прыжком с моста. Чем больше шагов я делаю от дома, тем сильнее тянет назад. Это похоже на невроз, только я не испытываю паники, или беспокойства, наоборот, окружающее на улице пространство перестает вызывать какие либо эмоции. Мне нет до него совершенно никакого дела. Совершенно никакого.
Иду по переулку. Только что закончился дождь. Ранние фонари, раздробленные лужами, тускло отражаются на асфальте синим галогеном. Двести двадцать шагов. В прорехе домов прозрачный полумесяц зацепился рогом за антенну. Двести тридцать. Совершенно никакого дела! Грязное закатное небо в чертовщине черных листьев. Двести тридцать семь. Темный коридор переулка, мерцающие глазки домофонов и сигнализаций. Двести сорок пять. Сбиваю дыхание сигаретой. Уф! Я знаю, за этими стенами живут люди, с которыми не стоит встречаться. Двести пятьдесят. До них мне тоже нет дела. Запомнил ли я кого-нибудь здесь? Двести восемьдесят. Помню, как же, однажды была девушка или женщина, точно не знаю, я видел ее на Большой Бронной только со спины.
Она шла по улице, и на ходу делала записи в тетради, в ее левой половине, высоко, почти на уровень плеча, выкинув согнутую правую руку. Острый локоть двигался на подобии каретки писчей машинки. По движению кисти было заметно, что она рисует, или пишет, постоянно меняя наклон строки, повторяя при этом направления линий головой. Крылья тетради взмывали вверх-вниз, подпрыгивая в такт шагам. Было видно, что она пишет от души, куда-то внутрь себя. Она свернула на Богословский, а я пошел прямо. Больше никого и не помню.
Триста двадцать. Устал. Развалился в кресле. Может быть, все это просто инфантилизм и нежелание принять реальность? Попытка вернуться в детство? Бог его знает, но я угадываю приметы совсем иных времен, бывших до меня, и они мне кажутся более реальными, чем весь этот мир за стеной. Иногда их можно нащупать только кончиками пальцев,– заросший слоями краски старинный шпингалет на оконной раме, затейливое клеймо на кирпиче с забытой фамилией, латунный механический звонок на стене. Все это приметы катастрофы, осколки амфоры на берегу, остатки Атлантиды, я вглядываюсь в черную воду окна и вижу ее проступающие контуры. Что более реально, рассказ старой соседки о детях, возвращающихся через темный двор с горящими лампадками из Спиридоновского храма, будто это было только вчера или массивное здание «Теплобетона» стоящее на месте храма? Я выбираю первое.
Кхег-клац. Больше не нужно считать. Ставлю «Подравку» на плиту, рядом в кофейной турке варю яйцо, куриный суп без него никуда. Мою посуду, гул газовой колонки успокаивает. Опрокидываю «муху» с перцовкой и замираю возле кухонного окна. В темноте двора загораются две красных искорки, приглушенные веткой клена, они то появляются, то исчезают в его черных кружевах. Стою и думаю, то ли это стоп сигналы паркующегося автомобиля, то ли лампадки детей возвращающихся с Пасхальной службы.
27.07.2017
Проводы карасей.
Старые дачные поселки зимой обычно нагоняют хандру своим заброшенным видом, но в январе девяносто второго, после оттепели начались снегопады. Все унылое и ветхое посветлело. Ржавые сетки ограждений, забитые снегом, стали похожи на кафельные стены с причудливо выбитой плиткой. Порывы ветра время от времени выхватывали из них большие куски, которые гулко ухали в тишине. Пустынные дачные улицы превратились в белые коридоры. С наветренной стороны заборов поднялись высокие сугробы, из которых торчали черные столбы электропередач, покосившиеся колья с копнами сухого девичьего винограда, корявые ветви облепихи, усыпанные бисером замерзших ягод. Снега было так много, что берега пруда с протокой перед домом едва угадывались, очерченные только зарослями кустарника и жухлого рогозника. Через протоку был перекинут деревянный мост. Он вел на другую сторону, в березовый лес, где сливаясь с деревьями, темнели пустующие дома.
Я жил в небольшом летнем домике с одной отапливаемой комнатой. При входе стояла прожорливая буржуйка, которая быстро нагревала комнату с вечера, и столь же быстро остывала, так что к утру, температура в доме опускалась ниже нуля. Откинув полог байкового одеяла прибитого в дверях, весь укутанный паром, я сваливал возле печки охапку дров. Покрытые тонкой корочкой льда, они оставляли на полу березовый сор и лужицы, парящие весенними запахами леса.
Днем я до изнеможения бегал на стареньких лыжах. Сейчас закрывая глаза, я снова могу безошибочно пробежать эту «трассу», из калитки направо вдоль пруда прямо под свисающие ветви старой ивы, словно в снежную арку, потом опять направо, огибая шиповник, после этого нужно увернуться от раскидистого куста облепихи, левая лыжа провалится вниз, а дальше будет легче, под горку, дальше, дальше. День пролетал незаметно, без особых мыслей. Вечером я забирался на второй этаж, из окна хорошо было видно закат, и рисовал один и тот же вид. Смеркалось рано, но еще раньше замерзали руки и в стакане для кисточки начинали позвякивать льдинки. Темнеющий вдалеке лес, незаметно утрачивал фактуру, и становился плоским и черным на фоне сиреневого неба.
Однажды, бегая на лыжах, я заметил мужика. Он курил возле открытой калитки, в ногах крутился серый кот. Мужик молча махнул мне рукой, и сразу отвернувшись, заковылял в дом. В этой стране, при таких обстоятельствах данный жест мог означать только одно и я, скинув лыжи, пошел пить водку.
Роман Шмельков
Если долго живешь в одном районе, то начинаешь замечать странные детали, несоответствующие общему облику окружающего. Они то появляются, то исчезают, чтобы вновь всплыть в самых неожиданных местах. Сборник рассказов и заметок.
Роман Шмельков
Нелинованный блокнот
Рыбак
Когда долгое время ходишь на одну работу по одному маршруту начинаешь привыкать к прохожим. По одним можно сверять время, не доставая телефон из кармана, о других интересно строить всяческие догадки. Кто они? Чем занимаются? Почему сегодня опаздывают? Третьим можно даже кивнуть.
Во всем это разнообразии всегда есть люди, которые незыблемо вписаны в пейзаж, и являются его частью словно лица президентов на горе Рашмор. Они никуда не спешат и являются как бы статичным маркерами или бакенами, пролетая мимо которых, начинаешь ощущать бессмысленность суеты.
Для меня это рыбак на Владимирском пруду. Фигура крайне колоритная, несмотря на то, что лица его я никогда не видел, но всегда чувствовал, что его тяжелый взгляд подобный эхолоту устремлен, куда-то вниз под плотную ряску. У него крохотная для его сложения голова, узкие плечи, которые U-образно направлены в сторону воды и огромный несоразмерный зад, под которым даже не угадывается складной стульчик. Весь он подобен конусу или пирамиде основательно вросший в илистый берег и напоминает фигуру с острова Пасха. Он никогда не двигается, и жив ли он, сказать весьма сложно.
Мне все время кажется, что не будет ни страны, ни города, ни меня, а он так и будет сидеть, весь покрытый мхом и грибами. У основания его ног все также будут покачиваться горлышки пивных бутылок, а между ними сновать водомерки, оставляющие легки круги на маслянистой поверхности воды.
13.08.2015
Чайтанья
Косо метет мокрый снег, липкий тяжелый, так метет, что выбивает остатки цвета из окружающих предметов, и нет ничего кроме черного и белого, только желтая труба газопровода на стене. Она петляет вдоль щербатой кирпичной кладки, взбирается вверх, огибая окна, опускается до уровня подоконников, перепрыгивает на соседние дома, направляя к переходу, ведущему в главный вход Ботанического сада к белой сторожевой башне с магазинчиком «Цветы». За чугунной оградой, едва заметна бойлерная или трансформаторная будка с узкими бойницами под самой крышей, какие бывают в общественных туалетах. Стена, обращенная на восток в сторону Марфинской шарашки, расписана граффити, в котором с трудом читается «Чайтанья».
– Хари ом тат сат! Бог есть истина.
Если выйти рано утром, можно увидеть, как в бойлерной открывается тяжелая железная дверь, и на заваленную снегом дорогу выходит Джанговар со скребком в руках в ярко желтой спецовке. Узловатая коричневая рука, уверенно сжимает черенок лопаты, словно это не черенок вовсе, а старое копье и цвет руки сливается с темным отполированным древком. Каждый день он расчищает тропинку от порога «Чайтаньи» до скульптуры графа Шереметева. Женоподобная фигура в буклированyом парике нелепо торчит из сугроба, выставив ножку в менуэтном па, к пухлой ляжке приникла борзая, похожая на овцу. Закончив работу, Джанговар стоит возле белого графа, облокотившись на лопату, и порывы ветра доносят тихий разговор на фарси. Мокрый снег нещадно облепляет крашеный бетон. Черты изваяния кривятся, шевелятся, шея постепенно утопает в плечах, собака растет на глазах, и вот уже кажется издалека, за завесою снега – маленький человечек с копьем в руках, стоит возле огромного Йети с лохматым медведем.
–Как же ты оказался здесь, дядя Джа?
Он удаляется по аллее в сторону пруда. Хрупкая фигура, то скрывается за пеленой снегопада, то снова появляется, словно звук колокольчика.
Так метет, что выбивает остатки цвета из окружающих предметов, и нет ничего кроме черного и белого, только желтая труба газопровода на стене и желтая спецовка дяди Джа, больше нет цвета ни в чем.
На берегу пруда, возле громадного разлапистого маньчжурского ореха, отполированного задницами детей в нескольких поколениях, того самого которого в Останкино называют «лазательное дерево» Джанговар останавливается. Хари ом тат сат! Он достает из кармана желтую ленточку, привязывает ее к корявой ветке, похожей на палец старика и долго молчит.
И нет ничего кроме черного и белого, только желтая труба газопровода на стене, желтая спецовка дяди Джа, и желтая ленточка на ветке.
Вечер. Сидя на заснеженной лавочке, пьем кислое вино из горла.
– Как же ты оказался здесь дядя Джа? Как тебя сюда занесло?
Он улыбается: « Это мое дерево, понимаешь? Нимай. По-вашему, дерево Жизни, ты видел его плоды? Здесь был Райский сад». Он снова задумался, и скосил желтый гепатитный глаз в сторону кофейной палатки. Я поперхнулся, вино залило воротник.
– На месте Ботанического сада, Райский сад?!!!
– Да.
– Дядя Джа, а ты часом не читал Пелевина?
– Нет, а кто это?
От удивления ставлю бутылку в сугроб. Молчим. Зажигаются фонари. Вино подергивается тоненькой корочкой льда, она покачивается на поверхности и раздается тихий звон словно отзвуки колокольчика.
30.03.18
Шаги.
Ключ длинный, сантиметров двадцать, с хитрыми бороздками разной высоты, черный от старости. Вставляю его в заплывшее краской отверстие и поворачиваю. Кхег-клац. Звук совсем как у затвора винтовки. Теперь еще раз до упора. Кхег-клац. Патрон в стволе. Еще нужно снять никелированную цепочку с английского замка. Массивная дверь открывается со скрипом. Отмечаю про себя, что скрип это хорошо! Это значит, что «отсек» задраен туго и течь не даст. Делаю шаг вперед, пока только один. Светлая лестница с высоким окном. Вначале режет глаз, потом привыкаешь. Воздух серый, густой от пыльной взвеси, потревоженный дверью, он кисельно вздрагивает в луче света, и крохотные блестящие песчинки испуганно шарахаются в сторону. На глубоком подоконнике маленький садик с жухлыми фиалками, ваза сухоцветов, старая гавайская гитара с двумя струнами, коньячная рюмка набитая окурками, под окном глубокое кресло. Время остановилось.
Лестничная клетка, – важная часть моей квартиры, вернее сказать ее продолжение или если хотите барокамера, где можно немного посидеть, выровнять давление перед выходом в город, привыкнуть к навязчивому шуму и гулким шагам на лестнице. Впрочем, вся эта жизнь происходит ниже, а здесь наверху она заканчивается, упираясь в заколоченную соседскую дверь и чердачный люк над головой. Курю, развалившись в продавленном кресле, и думаю об удобстве выхода на черную лестницу. С Малой Бронной доносится трель отбойного молотка, грохот компрессора и скулеж скорой. Тяжелая ватная муть городского шума постепенно обволакивает. Нужно идти.
Лестничный марш это десять ступеней, – десять шагов. Четыре марша – сорок, но сейчас я их не считаю, – ходьба по лестнице похожа на перемещение по вертикали, чем-то напоминающее полет. На плоскости все проще, – есть икс, игрек, здесь же в систему координат вплетается новая величина, отвечающая за высоту этажа, и все путает. За пределами квартиры лестница это единственное место, где я не считаю шаги и уверенно «лечу» вниз.
От подъезда до арки, выходящей на Спиридоновский, двадцать пять шагов. Не могу вспомнить, в какой момент старый двор превратился в эту сплошную стоянку, иногда мне кажется, что это произошло всего за одну ночь. Какой-нибудь ураган, вроде того, что унес домик Элли из Канзас-сити, принес к нам оттуда еще и все эти машины, вместе с их чертовыми водителями, детьми и уродливыми Татошками. Насчет Канзаса, я, конечно, не уверен, но то, что они не отсюда, в этом не может быть сомнений. Вместе с ними во дворах повсеместно появился асфальт, бетонная плитка, оранжевые шлагбаумы в арках, системы слежения и боевые лазеры, странные газоны с неестественно изумрудной травой, а самое странное, осенью стали исчезать листья, их стали куда-то уносить в черных мешках.
Куда пропала теплая лысая земля московских дворов, отполированная, до блеска поколениями жильцов, лоснящиеся коряги тополиных корней, по которым было так здорово скакать на велосипеде?! Куда подевались мохнатые всесезонные дворняги с умилительными мордами?! Двор наводнили твари вышедшие из ада: коротконогие, морщинистые, складчатые, лысые, лупоглазые, словно соревнующиеся в чистоте уродства. Чертов Босх! Чертов Канзас! Чертов Миссури! Лавируя между машинами, выползаю из арки на Спиридоньевский. Двадцать пять шагов. Когда я последний раз был на улице? Вроде бы еще лежал снег. Хотя он лежит каждый год. Не знаю. Думаю, это было давно.
Теперь налево – двести шагов до «Ароматного мира». Мимо отеля «Марко Поло» и кондитерской «Санта Клара». Чертова Италия! Иду и злобно ухмыляюсь. По «Волго-Дону» он сюда приплыл что ли?! Буратина иноземная! Волоками? Бурлаками? Перехожу Малую Бронную. Ага! «Полаццо-Марко-Поло-ВЦСПС»! Кстати, «Санта Клара» настоящее имя «Ниньи», так что может быть тут еще и Колумб бывал… Последнее время это мой самый длинный маршрут, но все же возвращаясь, можно заглянуть в продуктовый полуподвал «Нефритовый лес» на другой стороне. Когда-то я специально погуглил, что это значит, и вот что нашел: «Нефритовый лес – зона расположенная в восточной части Пандарии, граничащая с долиной Четырех Ветров на юго-западе и вершиной Кунь-Лай на северо-западе. Нефритовый Лес единственная локацией на полуострове Адского Пламени в Запределье». Меня вполне устроило это пояснение. Угу. Запределье! Оно мать его и есть, сразу после Адского Пламени. Как в воду глядели, игроманы хреновы. Продуктовый – это дополнительные тридцать шагов, единственный источник закуси поблизости от арки. Спешу нырнуть назад во двор, с бутылкой перцовки и супами «Подравка». Отличный улов. Сижу в своем кресле, любуюсь игрой табачного дыма в неярком луче света, пробивающимся сквозь мутное стекло. Разглядываю шикарного блестящего петуха на суповой упаковке и пытаюсь вспомнить, когда все это началось…
А началось это не в девяностые, когда по Москве стали расти как грибы после дождя странные шалманчики, палатки и ломбарды. Не в две тысяча пятом, когда появились все эти дикие вывески, а внутренности домов стали вынимать вместе с их жильцами, запихивая в пустые аквариумы привычных фасадов, какое-то совсем иное содержимое, с которым я не чувствовал ни малейшей связи. Все началось значительно позже с резидентного разрешения на парковку. Да, именно тогда. Не более пяти лет назад.
У меня тогда еще был старенький белый Рено. Парковка на Малой Бронной составляла что-то около двухсот рублей в час, но за квартирой было закреплено бесценное право на бесплатную парковку возле дома. Право это нужно было ежегодно отстаивать, подобно тому, как до недавнего времени доказывали инвалидность, поднимая всевозможные документы вплоть до «Государева родословца» и паспорта кота из ветклиники.
Прусская бюрократия, замешенная на русском мистицизме и революционном футуризме, извергла из себя чудовищные по силе заклинания: МФЦ, БТИ, ГиБбД, ОНИЛ, МГРХ, ТРБ, СНИЛС. Каждая буква – гвоздь, заколачиваемый в остатки здравого смысла. Вначале, когда государство с человеческим лицом, (вернее, той его малой частью, что отвечала за человечность), выделило право на бесплатную парковку, оформление документов занимало всего день, на другой год – два, в последующие – шесть дней. Мать его! Целых гребаных шесть дней! Почти неделю, я ходил как на работу, собирая бесконечные формы, разрешения родственников, и кланялся, бесстрастным теткам в окошках, время от времени извиняясь за забытый паспорт или очередной акт за номером с шестью нулями. Тот, кто сказал, что человечество движется по пути создания искусственного интеллекта, просто не был знаком с российским делопроизводством. Это самый настоящий, бездушный искусственный интеллект. Этакая инфернальная машина, воспроизводящая пароли на текущий день, чтобы возле передовой тебя случайно не грохнули свои же.
Добыв уникальный номер безопасности, доставшийся мне от моей же квартиры, я брел по Большому Палашевскому и размышлял: «Если у объектов собственности прав значительно больше, чем у их владельцев, то нужно загнать машину в лес с наслаждением завалить ее камнями, ломая ногти, закидать лапником. Получится прекрасный холмик, поросший опятами». Кажется тогда, на перекрестке Палашевского и Козихинского я и начал считать. В тот день получилось триста двадцать шагов, триста двадцать спасительных шагов. Тяжелая бессмысленность дня, необъяснимая искусственность событий, мешанина аббревиатур в голове и какие-то плоские фигуры людей на фоне макетов знакомых домов уверенно гнали меня в подъезд, назад к спасительной реальности.
С этой минуты выходя во двор меня, не покидает ощущение, будто к спине пристегнут резиновый канат бейсджампера, что надевают перед прыжком с моста. Чем больше шагов я делаю от дома, тем сильнее тянет назад. Это похоже на невроз, только я не испытываю паники, или беспокойства, наоборот, окружающее на улице пространство перестает вызывать какие либо эмоции. Мне нет до него совершенно никакого дела. Совершенно никакого.
Иду по переулку. Только что закончился дождь. Ранние фонари, раздробленные лужами, тускло отражаются на асфальте синим галогеном. Двести двадцать шагов. В прорехе домов прозрачный полумесяц зацепился рогом за антенну. Двести тридцать. Совершенно никакого дела! Грязное закатное небо в чертовщине черных листьев. Двести тридцать семь. Темный коридор переулка, мерцающие глазки домофонов и сигнализаций. Двести сорок пять. Сбиваю дыхание сигаретой. Уф! Я знаю, за этими стенами живут люди, с которыми не стоит встречаться. Двести пятьдесят. До них мне тоже нет дела. Запомнил ли я кого-нибудь здесь? Двести восемьдесят. Помню, как же, однажды была девушка или женщина, точно не знаю, я видел ее на Большой Бронной только со спины.
Она шла по улице, и на ходу делала записи в тетради, в ее левой половине, высоко, почти на уровень плеча, выкинув согнутую правую руку. Острый локоть двигался на подобии каретки писчей машинки. По движению кисти было заметно, что она рисует, или пишет, постоянно меняя наклон строки, повторяя при этом направления линий головой. Крылья тетради взмывали вверх-вниз, подпрыгивая в такт шагам. Было видно, что она пишет от души, куда-то внутрь себя. Она свернула на Богословский, а я пошел прямо. Больше никого и не помню.
Триста двадцать. Устал. Развалился в кресле. Может быть, все это просто инфантилизм и нежелание принять реальность? Попытка вернуться в детство? Бог его знает, но я угадываю приметы совсем иных времен, бывших до меня, и они мне кажутся более реальными, чем весь этот мир за стеной. Иногда их можно нащупать только кончиками пальцев,– заросший слоями краски старинный шпингалет на оконной раме, затейливое клеймо на кирпиче с забытой фамилией, латунный механический звонок на стене. Все это приметы катастрофы, осколки амфоры на берегу, остатки Атлантиды, я вглядываюсь в черную воду окна и вижу ее проступающие контуры. Что более реально, рассказ старой соседки о детях, возвращающихся через темный двор с горящими лампадками из Спиридоновского храма, будто это было только вчера или массивное здание «Теплобетона» стоящее на месте храма? Я выбираю первое.
Кхег-клац. Больше не нужно считать. Ставлю «Подравку» на плиту, рядом в кофейной турке варю яйцо, куриный суп без него никуда. Мою посуду, гул газовой колонки успокаивает. Опрокидываю «муху» с перцовкой и замираю возле кухонного окна. В темноте двора загораются две красных искорки, приглушенные веткой клена, они то появляются, то исчезают в его черных кружевах. Стою и думаю, то ли это стоп сигналы паркующегося автомобиля, то ли лампадки детей возвращающихся с Пасхальной службы.
27.07.2017
Проводы карасей.
Старые дачные поселки зимой обычно нагоняют хандру своим заброшенным видом, но в январе девяносто второго, после оттепели начались снегопады. Все унылое и ветхое посветлело. Ржавые сетки ограждений, забитые снегом, стали похожи на кафельные стены с причудливо выбитой плиткой. Порывы ветра время от времени выхватывали из них большие куски, которые гулко ухали в тишине. Пустынные дачные улицы превратились в белые коридоры. С наветренной стороны заборов поднялись высокие сугробы, из которых торчали черные столбы электропередач, покосившиеся колья с копнами сухого девичьего винограда, корявые ветви облепихи, усыпанные бисером замерзших ягод. Снега было так много, что берега пруда с протокой перед домом едва угадывались, очерченные только зарослями кустарника и жухлого рогозника. Через протоку был перекинут деревянный мост. Он вел на другую сторону, в березовый лес, где сливаясь с деревьями, темнели пустующие дома.
Я жил в небольшом летнем домике с одной отапливаемой комнатой. При входе стояла прожорливая буржуйка, которая быстро нагревала комнату с вечера, и столь же быстро остывала, так что к утру, температура в доме опускалась ниже нуля. Откинув полог байкового одеяла прибитого в дверях, весь укутанный паром, я сваливал возле печки охапку дров. Покрытые тонкой корочкой льда, они оставляли на полу березовый сор и лужицы, парящие весенними запахами леса.
Днем я до изнеможения бегал на стареньких лыжах. Сейчас закрывая глаза, я снова могу безошибочно пробежать эту «трассу», из калитки направо вдоль пруда прямо под свисающие ветви старой ивы, словно в снежную арку, потом опять направо, огибая шиповник, после этого нужно увернуться от раскидистого куста облепихи, левая лыжа провалится вниз, а дальше будет легче, под горку, дальше, дальше. День пролетал незаметно, без особых мыслей. Вечером я забирался на второй этаж, из окна хорошо было видно закат, и рисовал один и тот же вид. Смеркалось рано, но еще раньше замерзали руки и в стакане для кисточки начинали позвякивать льдинки. Темнеющий вдалеке лес, незаметно утрачивал фактуру, и становился плоским и черным на фоне сиреневого неба.
Однажды, бегая на лыжах, я заметил мужика. Он курил возле открытой калитки, в ногах крутился серый кот. Мужик молча махнул мне рукой, и сразу отвернувшись, заковылял в дом. В этой стране, при таких обстоятельствах данный жест мог означать только одно и я, скинув лыжи, пошел пить водку.