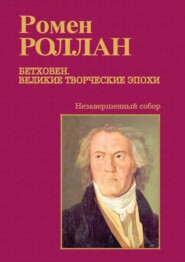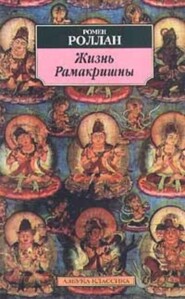По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Очарованная душа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сначала это удивляло ее. Затем она поняла: роскошь изолировала ее, лишила контакта с землей. Аннета вновь обретала его лишь в те редкие минуты, когда ей удавалось вырваться и пробежаться пешком по узким уличкам или по полям. Дрожь пробирала ее иной раз, когда ее нога утопала в мягких отельных коврах, однообразных, похожих один на другой, старательно прикрывавших паркет и камень полов. Ей так хотелось походить босиком по голой земле! Но ее ни на минуту не оставляли в покое. Болтовня трех попугаев, не умолкавших ни днем, ни ночью, доводила ее до отупения.
В Бухаресте в первые дни стояла суматоха и оглушительный шум громадного птичника, как в Париже, в Зоологическом саду: огромная семья, родственники, знакомые – целое племя собралось после разлуки. На много дней и много ночей хватило бы им восклицаний, излияний, объятий и поцелуев. Все двери настежь. Все нараспашку. Все секреты. Полные корзины интриг, флиртов и большего, чем флирт, и все происходило открыто, на глазах, в каждой комнате, коридорах. Мужчины редко говорили с женщинами о чем-нибудь таком, что не вертелось бы вокруг красного фонаря. Аннета считала себя обязанной наблюдать за своими воспитанницами, и у нее было довольно забот в этой накаленной атмосфере. Она и сама была не ограждена от преследований: она заметила это с досадой, но, пожалуй, не без насмешливого удовлетворения (ого! в сорок три года!). Как парижанка, она, несмотря на свой возраст, была для мужчин предметом внимания и вожделения. И Фердинанд Ботилеску, который еще во время путешествия надоел ей своей тяжеловесной галантностью, начинал ее немного беспокоить.
Однако, пока они жили в городе, опасность была невелика: участок, на котором шла охота, был достаточно богат дичью, чтобы насытить этих Немвродов. И у Фердинанда были другие кошечки, не считая политики, дел, погони за почестями и деньгами.
Но спустя два месяца они переехали в имение Ботилеску, затерянное среди прудов и лесов унылой валашской долины, обжигаемой то зноем, то морозом. Стояла осень. Густые туманы проплывали над болотами, где тараторили водяные курочки. Тяжелый автомобиль то застревал в колеях разбитых дорог, то жестоко тряс, и тогда пятерых женщин и их господина и повелителя обдавало грязью. Но только у одной Аннеты ныла разбитая тряской поясница, и она изумлялась выносливости румын: им, видимо, все было нипочем, они были сделаны из меди, в особенности глотки барышень, ни на одну минуту не перестававших болтать.
Просторный, но ветхий дом – не то замок, не то ферма – стоял на пригорке, еле заметно возвышавшемся над тоскливым однообразием равнины. Его строили по частям; не было ни одного этажа, который находился бы весь на одном уровне; извилистые коридоры поднимались и спускались на каждом повороте, истертые каменные ступеньки дрожали под ногами. В доме никто не жил в течение нескольких лет войны, и им завладела природа; дикий виноград, красный на осеннем солнце, как кровь, и облысевший плющ, прикрывавший фасад, пролезли сквозь щели в стенах, сквозь источенные червями оконные рамы в дом и привели с собой целые полчища уховерток и муравьев.
Уборка, сделанная кое-как, на скорую руку, перед самым приездом господ, мало потревожила пауков, устроившихся в темных углах и в складках портьер; ящерицы бегали и дремали в коридорах, а в нижнем этаже можно было иной раз услышать свист ужа. Ни барышень, ни их мать это не трогало. Они привыкли к роскоши Западной Европы, но дома прекрасно себя чувствовали среди грязи и запущенности, на покрытых пылью диванах и кушетках. Аннете было стыдно сознаться себе, что ей это внушает отвращение, и она решила во всем видеть смешную сторону. В первый вечер Аннета старалась не заглядывать в углы своей комнаты, – она поспешила задуть свечу, которая коптила и пахла горелым салом; сморенная усталостью, она вытянулась на жесткой и скрипучей старой деревянной кровати, размалеванной романтическими и батальными сценами и амурами. На этой кровати могли бы со всеми удобствами расположиться две пары ночлежников. За их отсутствием ее населяли другие, не менее докучливые жильцы. Первый же сон Аннеты был нарушен: у нее горела вся кожа; ей пришлось покинуть сей исторический монумент и ютившееся в нем голодное население, – остаток ночи она провела на стуле. Это значило попасть из Харибды в Сциллу. В окна, которые она раскрыла, влетели крылатые эскадроны комаров. В пруду квакали лягушки, а с первыми лучами рассвета где-то вдалеке зазвонили надтреснутые монастырские колокола.
Следующие ночи, пока не прибыла из Бухареста новая кровать, Аннета спала на полу, на матраце, и это никого не удивляло. Правда, барышни предлагали ей лечь с ними на одной постели. Они спали в огромной соседней комнате, спали как убитые, с открытым ртом, негромко и мерно похрапывая, согнув колени под раскиданными простынями. Их голые бедра были неуязвимы для насекомых. Утром они шутили по поводу того, что у Аннеты распухли щеки, нос, лоб, вздулись щиколотки. Аннета тоже смеялась, зверски царапая себе все тело: она платила налог на иностранцев. Как только эта нечисть взыщет его, тотчас получишь иммунитет. Нет худа без добра: пожалуй, это было благоразумно – представать перед праздными очами хозяина в непривлекательном виде. Но она заблуждалась, если думала, что его могут остановить такие пустяки. Слишком уж он вертелся вокруг нее. Он постоянно старался услужить ей, постоянно проявлял к ней преувеличенное и назойливое внимание, подчеркнуто обращался с ней, как с гостьей. Однако под его тяжелыми веками она видела сверкание быстро угасавших, но все же зловещих молний. В иные минуты очутиться с ним наедине было бы небезопасно. Невелика оказалась бы цена всей этой его внешней почтительности. Он обошелся бы с ней, как с кобылицей. Именно так обращался он у себя в имении с крестьянскими девушками, которых заставал в коровнике за доением или у пруда, когда, стоя в грязи, они связывали в снопы срезанный камыш. Оки потом оправлялись, бешено и удовлетворенно кудахча, как куры. По-видимому, ни для жены, ни для дочерей господина и повелителя это не составляло тайны; они этому не придавали значения; быть может, в душе они даже гордились своим султаном. Немало деревенских ребятишек являло с ним разительное сходство. Зверь всегда был голоден.
Тяжелый, почти исключительно мясной стол (у Аннеты он вызывал отвращение), дорогие вина и «цуика» (сливовая водка) не могли заполнить прорву этого желудка: чистый воздух и праздность делали его бездонным. Г-жа Ботилеску проводила целые дни в дремоте и безделье, взвалив на Аннету заботы по дому. Фердинанд растрачивал силы на ходьбу пешком, на верховую езду, на охоту; иногда он брал с собой всю компанию кататься верхом или в автомобиле. Но Аннета насторожилась после того, как однажды, собирая с барышнями цветы в болотных зарослях, она внезапно оказалась одна и на ее зов откликнулся гусак. Она добралась до дому другой дорогой; увидев невинные личики барышень, которые бросились ей на шею, крича наперебой, что всюду искали ее, Аннета раскаялась в своем подозрении. Но сколько она ни гнала его от себя, оно не уходило; оно, как собака, легло у дверей, свернувшись калачиком на подстилке. Перехваченные ею взгляды маленьких обожательниц заставляли ее быть все время начеку. В свою очередь, она с любопытством француженки пыталась установить, какие же могут быть побуждения, у этих душонок, наивных и сложных. Аннета угадывала безотчетную, быть может, затаенную, неприязнь, которую она могла возбудить у них в Бухаресте, мешая им флиртовать. В особенности старшая, которая осыпала ее самыми нежными поцелуями, должна была иметь против нее зуб, – она и точила на Аннету один из своих красивых острых клыков молодой лисицы, открывавшихся, когда в обольстительной улыбке подымалась ее полная, покрытая пушком губа. Что же, выходит, девушки лгали? Нет, если лгать – значит, говорить противоположное тому, что думаешь. Они и думали, что говорили, а говорили, что думали. Они были искренни и в то же время хитры. Они любили Аннету, и одновременно их забавляло толкать ее в сети папаши. Самая младшая не видела в этом ничего худого; для нее это была просто забава. Даже вторая, наиболее искушенная, только хотела посмотреть, какой сердитый вид будет у гувернантки, когда она попадется. Но старшая, Стефаника, знала, что делает. Она находила двойное удовольствие в том, чтобы, любя Аннету, мстить, толкая ее в объятия отца. Его похождения, быть может, пробуждали запретные чувства в ней самой. Эти чувства она скрывала и даже себе не признавалась, какую ведет игру, но заранее облизывалась при мысли об успехе. Аннета не хотела этому верить, хотя у нее раза три мелькнули подозрения. Но она насторожилась.
Однажды вечером, собираясь лечь спать, она заметила, что ключ от ее комнаты исчез из замочной скважины. Всего каких-нибудь четверть часа назад она его видела. Девочки были у нее в комнате. Они едва не задушили ее в объятиях, желая ей спокойной ночи. У Аннеты не оставалось сомнения.
Шерсть вздыбилась на волчице. Она упрекала себя: «Я дура! Аннета, милая моя, ты фантазируешь. Ты слишком нервна. Ключ выпал. И даже если девочки унесли его, они просто хотели пошутить. Не надо обращать внимания». Она легла. Но через три минуты вскочила с кровати. Из соседней комнаты до нее донесся приглушенный смех двух старших. Она пошла к ним – босиком, в ночной рубашке. Едва она вошла, свеча погасла. Она снова ее зажгла. Девушки притворились спящими. Когда же Аннета растормошила их и заговорила сердитым тоном, они разыграли пробуждение и с невинными глазками поклялись всеми святыми, что не понимают, чего от них хотят: они ничего не знают. Аннета не стала тратить времени на пререкания. Она холодно сказала Стефанике:
– Уходи отсюда! Я остаюсь здесь. Поди ляг на мою кровать.
Девушка подскочила.
– Нет, нет, нет, нет! – в ужасе закричала она.
Аннета заглянула ей в глаза, не стала настаивать и легла с ней рядом.
Снова стало темно. Все молчали. Прошел час, и в коридоре под чьими-то шагами затрещали шаткие половицы; рядом открылась дверь, кто-то вошел в комнату Аннеты. Приподнявшись на локте, Аннета прислушивалась; Стефаника притворялась спящей, но тоже прислушивалась: ее выдавало тревожное дыхание. За стеной возбужденный мужчина (он почти каждую ночь бывал полупьян) пришел в бешенство от неудачи. Он сбрасывал простыни, подушки и ревел, как слон. Аннета тоже разозлилась; схватив Стефанику за плечи, она шепотом потребовала, чтобы та созналась; она бросала ей в лицо неприличные слова на румынском языке (на всех языках эти слова узнаются прежде всего, одновременно с теми, которые нужны, чтобы попросить поесть). Та, растерявшись, продолжала упорно отрицать, покуда во время спора не упал на пол ключ, который Стефаника спрятала под подушкой. Разочарованный волокита вышел из комнаты, хлопнув с досады дверью, и зашагал по коридору, топая ногами, как буйвол. Обе барышни, пристыженные и взволнованные (они только теперь с ужасом поняли свое предательство), рыдая, бросились перед Аннетой на колени – они целовали и обливали слезами ее руки, просили прощения. Они были искренни. Стефаника впала в шумное отчаяние, гулко била себя кулаками в крепкую грудь, заявила, что желает провести остаток ночи у ног Аннеты. Наконец, всхлипывая и шмыгая носами, как дети, которых высекли, девушки заснули. Невозможно было на них сердиться. Но доверяться им тоже было невозможно.
Аннета хотела уехать на другой же день. Но девочки с криком, бурно выражая ей свою любовь, умоляли ее остаться. А смущенный Фердинанд, ни словом не обмолвившись о своем неудавшемся ночном набеге, держался на почтительном расстоянии, проявляя внешние признаки раскаяния. Аннета отменила свое решение. Впрочем, его осуществлению мешали серьезные материальные причины: у нее не было денег. Когда она требовала то, что ей причиталось, у хозяев находились всевозможные предлоги, чтобы тянуть и не платить ей. Надвигалась зима и отрезала усадьбу от остального мира: переезды были трудны в это время года, нельзя было уехать, когда хочешь.
Аннета решила подождать до весны. Пережитые тревоги как будто заставили всех остепениться. Наступил период сонливого покоя. Снег, расстелившийся по полям, покрыл и сердца своим легким пухом. В лунные ночи сверкал брильянтами замерзший пруд. Катались в санях с бубенцами. От ветра краснели щеки, уши горели под теплыми шапками. Тело, закутанное в меха, чувствовало себя счастливым от притока освеженной крови. Грязь лачуг с камышовыми крышами и зловоние болот прикрывала незапятнанная белизна зимнего покрова. Аннета не без успеха старалась обратить внимание своих пташек на нищету крестьян, у которых под лохмотьями была волчья шерсть. Крестьяне очаровали Аннету своими прекрасными песнями, точеными лицами, блестящими дикарскими украшениями, которые они надевали в праздники, древними обычаями и здравым смыслом. Аннета пыталась заговаривать с ними, и их недоверие таяло; ей приятно было видеть, как под суровым обликом даков, прикованных к колонне Траяна, вспыхивает веселый огонек иронии бургундского Кола Брюньона, который всему знает цену и над всем смеется. Иногда можно было услышать и раскаты грома. Они доносились издалека: слово, жест, повышение голоса. Веками накапливавшийся бунт против господина… Господин это знал, но это длилось века (со взрывами время от времени). И он считал, что таков естественный закон, которым должен пользоваться и пользовался сильнейший, то есть он. «Ты коленями сжимаешь лошади бока. Если она лягается, рви ей рот удилами!..» Аннета заметила этот молчаливый поединок и (тем, кто ее знает, говорить об этом излишне) ставила ставку на лошадь. Когда же освободит она свою спину от всадника? Аннета не жалела, что осталась. Хорошо было прикоснуться к первобытным силам, к этой древней земле. Над ней проносились зимние бури, их внезапные порывы вздымали вместе со снежными вихрями видения битв Марка Аврелия и других, грядущих, битв, которые еще пока дремали в сердцах гетов.
Суровый климат и прогулки на свежем воздухе укрепили Аннету. Во всем ее теле было разлито столько цветущего, ликующего здоровья, что оно казалось вызовом, и благоразумнее было бы его скрывать: Аннета и не подозревала, что оно стало приманкой, брошенной перед самой пастью щуки. Аннета вся была охвачена пламенем своей ранней осени; она ощущала телесную радость и душевный покой: она знала, что Марк находится под теплым крылышком Сильвии. Она с увлечением принимала участие в народных праздниках. Барышни Ботилеску рядились сами и ее наряжали в тяжелые, пышные крестьянские платья (отношения между господами и слугами хоть и отличались грубостью, но не были лишены фамильярности). Сравнение было не в пользу молодых помещиц, и парни не колебались в выборе: Аннета плясала со всеми щеголями, со всеми деревенскими петухами. Она не замечала ревнивой злости на насупленных мордочках своих кошечек; точно так же не обращала она внимания и на разгоревшиеся глаза хозяина, покуда он не вырвал ее однажды из рук какого-то деревенского танцора и сам не обхватил за талию. Тогда она сослалась на усталость и после танца ушла домой.
Несколько дней после этого она соблюдала прежнюю осторожность. Но потом тревога показалась ей напрасной. И снова все заснуло.
Это произошло в конце марта. Медленно начинал биться пульс пробуждавшейся земли. Глубокий снег покрывался морщинами, под ним пробегала скрытая лихорадка, на пруду проламывался лед. По ночам было слышно, как в молчаливом небе проносятся стаи перелетных птиц. Пост кончился, и помещики беспрерывно ездили друг к другу в гости. Барышни Ботилеску уехали с матерью на ужин и танцы в соседнее имение. Отец отсутствовал несколько дней; говорили, что он в Бухаресте. Аннета не поехала со своими воспитанницами: легкий озноб, головная боль-начало гриппаудержали ее дома.
Спускался вечер, потом наступила ночь. Аннета лежала у себя, и ей лень было зажечь свет. Она слышала, как внизу в гостиной тикали старые, заржавленные, прихрамывавшие часы, а где-то на окутанной тьмой равнине скрипели несмазанные колеса крестьянской телеги. Аннета засыпала. Ее разбудило щелканье ключа в замочной скважине. Она не обратила на это внимания. Но у нее возникло какое-то неприятное ощущение, похожее на глухое нытье в распухшей десне. Она приписала это гриппу. Потом в десне началось покалывание, и больное место определилось: опасность была не внутри, а вовне. Она вспомнила, что застала Стефанику у телефона, когда та с таинственным видом, торопясь и волнуясь, с кем-то говорила. Аннета тогда не поняла, о чем шел разговор, но теперь ей все стало ясно. Она вспомнила, что осталась в усадьбе одна с раболепной, глухонемой, покорной и на все способной челядью. И вдруг привскочила на кровати, вспомнив разбудившее ее щелканье ключа. Она встала, подошла к двери и обнаружила, что дверь заперта на ключ, но снаружи. Как раз в эту минуту она услышала шум въезжавшего во двор автомобиля. Сомнений не оставалось. Хозяин пробирался домой, как вор. Она задвинула внутреннюю щеколду, которую в свое время велела приделать для безопасности. Он скоро придет – Аннета была в этом уверена.
И он пришел. Он толкнул дверь, но дверь не подалась. Аннета стояла молча, охваченная бешеной злобой, как крыса, попавшая в крысоловку. Она взвешивала свое положение и наконец решила, что щеколда долго не выдержит. Аннета старалась выгадать время. Холодно и отрывисто отвечала она на голос за дверью, который начал переговоры. В то же время она обходила комнату, как крыса, которая ищет щель. Щель была только одна – окно. Аннета открыла его. Комната находилась на втором этаже, в том углу, под которым высился холмик, а окно с круглым балконом нависало прямо над склоном этого холмика. Аннета перегнулась через перила и взглядом измерила высоту. Она ощупывала узловатый стебель старой, высохшей глицинии, змеиными кольцами обвивавшей перила, и обдумывала, как быть. Потом оделась, сунула ноги в деревенские валенки, натянула рукавицы, но тут же сняла их, чтобы свободнее действовать руками. Мигом сгребла она все свои самые необходимые вещи и даже в такую минуту нашла время отдать дань женскому инстинкту и посмотреться в зеркало, нахлобучивая на уши теплую каракулевую шапку. Она увидела свой искаженный злобой рот, отвечавший презрительными «да» и «нет» разъяренному животному, которое расшатывало дверь, грозя сорвать ее с петель. Наконец в последний раз обвела комнату взглядом и решилась. Уже у самого окна она, видимо, вспомнила что-то, вернулась, схватила фотографию Марка, которая была приколота булавкой к стене, над изголовьем кровати, и спрятала у себя на груди. Затем перешагнула через перила балкона и стала спускаться. Хватаясь за узловатый стебель глицинии, она то тяжело скользила вниз, то задерживалась, поминутно рискуя распороть себе живот или выколоть глаза острыми ветвями, которые больно стегали ее по лицу. Внезапно она почувствовала режущую боль в предплечье и разжала пальцы. К счастью, она успела проделать две трети спуска, и снеговая подушка смягчила ее падение. Она скатилась к подножию холмика. Луна спряталась за помещичьим домом, стало совсем темно. Платье Аннеты было изодрано, руки и ноги исцарапаны, и все же она была пела и невредима. Она перевела дыхание и пустилась бежать полем, торопясь воспользоваться последним светом заходившей луны, чтобы не заблудиться. Но луна не замедлила исчезнуть. Наступила полная темнота. Аннете так легче было спастись от погони, но, с другой стороны, это мешало ей, так как она сбивалась с дороги. Она хотела идти в Бухарест, где французский консул помог бы ей выехать на родину. Но она плохо знала местность; к тому же глубокий мрак не позволял ей ориентироваться. Она шла, шла, приглядываясь к земле, как собака, ищущая след, но свет, который излучала земля, то направлял Аннету на верный путь, то сбивал. Она проваливалась в сугробы, шлепала по болотам, увязала в грязи и снова из нее выбиралась, замерзала и тряслась, как в лихорадке. Так она шла всю ночь и, обманутая несмолкавшим хором лягушек, не заметила, что все время кружит вокруг одного и того же большого пруда. При первых лучах утренней зари она обнаружила, что находится на шоссе, посреди болот; сквозь камыш, совсем близко, была видна проклятая усадьба, из которой Аннета бежала. Изнемогая от усталости, она снова тронулась в путь. Она увидела крестьянского мальчика, который срезал камыш. Мальчик повернул к ней свою мордочку, черную от присохшей тины, оглядел ее и, вместо того чтобы ответить на вопросы, пустился со всех ног наутек, бросив свою охапку камыша. Аннета решила, что за ней погоня и мальчик побежал донести на нее.
Она стала искать проселочные дороги, по которым можно было бы уйти, но их не было: бесконечное прямое шоссе лежало, как дамба, между двумя болотами – и ни единого поворота, за которым можно было бы спрятаться!
Напрасно ускоряла она шаг. Пыхтение автомобиля, показавшегося вдали, предупредило ее, что погоня приближается. Догонявший тоже увидел ее. Еще три минуты, и он будет здесь. Не колеблясь ни секунды, Аннета бросилась прямо в болото. Ледяная корка подломилась. Аннета попала в холодную цепкую тину и ухватилась за ивовые корни. С шоссе долетел до нее охрипший голос Фердинанда. Фердинанд был встревожен и раздражен, он заклинал ее вернуться. Но она вскарабкалась на покрытый грязью пень и крикнула ему:
«Нет!» – затем снова упрямо бросилась в заросли и скрылась. С шоссе было видно, как колышутся камыши и болотные травы там, где проходит загнанная волчица. От этого дикого упрямства волна бешенства ударила в лицо охотнику. Весь багровый, он орал, что если она не вернется немедленно, он будет стрелять. Она крикнула: «Стреляй!» Она тоже вышла из себя. Она была пьяна от ярости. Она по самую грудь стояла в грязи, по ней скользили зловонные водоросли, похожие на липких черных пиявок. В мутном небе мяукал ястреб. Она подумала:
«Не дамся! Уж лучше кормить болотных крыс и пауков!»
Фердинанд пришел в ужас. Он переменил тон. Он умолял. Он клялся своей честью (плевать ей было на его честь!), что уважает ее, что весь отдает себя к ее услугам, что заранее принимает все ее условия. Она ничему не верила, теперь ее нельзя было провести!.. Она упрямо сжимала губы, – чтобы не отвечать и чтобы не наглотаться зловонной жижи, в которой она барахталась. Она бы ни за что не сдалась, если бы болото не обступило ее со всех сторон и не парализовало ее движений; пытаясь высвободиться, она еще больше запутывалась в водорослях, они душили ее. Ботилеску решил ей помочь. Он сам рисковал увязнуть, но в конце концов добрался до нее. Ему удалось схватить ее под мышки, он с трудом вытащил из из тины и вывел на берег. Она была вся черная от грязи – с головы до пят, но все такая же бесстрашная. Она бросала Ботилеску вызов. Однако Ботилеску не хотел его принять. Он восхищался ею. Он уже говорил почтительно и жалел, что вынудил ее к бегству. Он умолял Аннету простить его и вернуться в имение. Он говорил и униженно и высокопарно, но все же искренне, и это вызвало улыбку на лице Аннеты, казавшемся особенно суровым от переполнявшей ее ненависти и от приставшей к нему грязи. Она сказала:
– Ладно, забудем! Нам это нужно обоим… Но вернуться – нет! Об этом и речи быть не может… Я уезжаю.
Ботилеску изобразил изумление, но только из приличия, – не так уж он был изумлен. Он предвидел это решение и даже захватил с собой чемодан Аннеты и все оставленные ею вещи. Он предложил довезти ее до ближайшей станции, на которой останавливался международный экспресс, и просил с жалким видом напроказившего старого школьника, чтобы она великодушно избавила его от неприятностей и написала в имение письмо, в котором объясняла бы свой внезапный отъезд известиями о сыне, срочно потребовавшими ее возвращения в Париж. Она согласилась и села в автомобиль.
Они остановились в ближайшей деревушке и зашли в наименее грязную хижину, чтобы Аннета могла умыться и переодеться. Вскипятили котел воды, и Аннета вымылась с головы до ног и переменила белье. Фердинанд, прогнав детвору и хозяев дома, целомудренно и свирепо караулил дверь, повернувшись к ней спиной. Аннета стояла голая, кожа у нее раскраснелась от обтираний, зубы стучали от холода, и внезапно на нее напал дикий хохот: она вспомнила рассказ Сен-Симона о герцоге, который со шпагой в руке расхаживал взад и вперед перед церковью, где в это время облегчалась дама его сердца. Грипп и пробравший ее до костей, холод болота выворачивали ей все внутренности, и она, как истинная бургундка, не поколебалась сделать во дворике, под охраной своего доблестного рыцаря, то же самое.
Да будет стыдно тому, для кого это дурно пахнет! У Клеопатры – и то бывает расстройство желудка…
Они снова сели в автомобиль. До ближайшей станции было далеко, а оттепель испортила дорогу; когда же они наконец добрались, то оказалось, что произошла серьезная катастрофа и движение восточноевропейского экспресса приостановлено на несколько дней: у выхода из Карпат полотно размыло наводнением. Ботилеску предложил Аннете отвезти ее в Бухарест, где она могла бы переждать в гостинице, пока будет восстановлено движение. Но она решительно отказалась – ей хотелось как можно скорее уехать.
Было бы, конечно, благоразумней полечиться от простуды, сидя в комнате, но лихорадка, которая бродила у нее по всему телу, и возбуждение, вызванное бегством и погоней, гнали ее прочь из этой страны. Она была раздражена и нетерпелива, ее преследовал страх, что она может здесь умереть.
Когда Аннета билась в болоте, она о страхе не думала. А теперь ей было страшно; тина подступала к самому горлу (гнилостный запах преследовал ее по ночам, она ощущала его на пальцах); она дрожала от ужаса, что захлебнется болотной жижей, она задыхалась. По ее желанию Фердинанд отвез ее в Констанцу, и там она села на первый пароход. Это было итальянское судно, оно шло в Бриндизи по довольно длинному маршруту. Но Аннета и слушать не хотела увещеваний Ботилеску. Она заперлась в каюте, и там ее свалила смертельная усталость. Она была одна со своей лихорадкой и ничего не видела в течение всего переезда. Она думала только об одном: живой или мертвой, но вернуться.
Аннета вернулась в Париж. Она приехала раньше, чем Марк получил ее телеграмму, завалявшуюся у привратницы. Марк за это время несколько раз снимался с лагеря, и Аннета не успела получить его последний адрес. Найти его оказалось не так легко. Сильвия не знала, где он живет. Аннета была недовольна равнодушием сестры и не скрыла от нее этого. Сильвия поняла, в чем дело, и ответила, что она не нянька. У нее свои заботы! Аннета тотчас ушла. Она заметила, как сильно изменилась сестра: вся расплылась, лицо опухшее, багровое, под глазами мешки. И Аннета упрекнула себя за то, что в сердцах даже не справилась о ее здоровье. Сильвия тоже чувствовала себя виноватой.
На след направил Аннету Сент-Люс. Но, как хороший товарищ, он не сказал ей, что Марк служит рассыльным в ночном кабаке. Он знал, насколько его приятель самолюбив, и предупредил его о приезде матери. Аннета прождала сына всю ночь в его комнате, в гостинице, не ложась спать. Марк пришел на рассвете и постучал. Ему так же не терпелось увидеть мать, как ей не терпелось увидеть сына. Но когда они увиделись, никаких излияний не было. Оба сразу почувствовали холодок. Они нашли друг друга не такими, как при расставании. У каждого были потрясения, и каждый перенес их по-своему. К тому же оба были взвинчены бессонной ночью. Аннета плохо скрывала несколько раздраженное нетерпение, с каким она ждала сына, и те подозрения, которые ей внушала его ночная жизнь. А Марк почувствовал это и тоже рассердился. Ведь она приехала неожиданно, как раз в такой момент, когда ему приходилось особенно туго, и он был не уверен, что Сент-Люс не рассказал, какая у него унизительная должность. Он спросил скорее сухо, чем нежно, почему она не легла спать. Она, быть может, мягче, чем хотела, ответила вопросом на вопрос:
– А ты, мой мальчик? Он смело мог бы рассказать матери, что тоже не веселился, но он был слишком горд, чтобы объясняться. Она словно спрашивала у него отчета. А он и мысли не допускал, что перед кем-то обязан отчитываться. Он не удостоил ее ответом. Аннета присматривалась к нему, к поблекшему цвету его лица, к изможденным чертам, к ранним морщинам, залегшим вокруг ноздрей и говорившим о преждевременной изношенности, об отвращении к жизни. Ее сердце сжималось, она подозревала, что он ведет беспутную жизнь, и подумала о том, какой отпечаток это налагает… Марк предоставил ей думать что угодно. Он осмотрел ее и тоже остался недоволен. Она выглядела слишком здоровой, слишком упитанной, у нее был цветущий вид, в ее глазах, во всех ее движениях сверкала, быть может, помимо ее воли, радость жизни. Никто бы не подумал, что она только что еле вырвалась из румынского болота и перенесла тяжелый грипп. Краски на ее лице были обманчивы. У нее все еще повторялись приливы крови. Но одно было бесспорно: несмотря на все свои злоключения, Аннета считала, что жизнь совсем не так плоха.
Нет, право же, с годами она начала приобретать к ней вкус! Треволнения, неожиданности, даже катастрофы и неуверенность в завтрашнем дне – от всего этого жизнь становилась только еще полнее. Это было куда аппетитнее, чем бесцветные годы ее молодости, чем жизнь французского мещанства между 1890 и 1900 годами! Аннета была сильной натурой. Более сильной, чем Марк, – она это видела ясно. Что ж делать?! Не могла же она в самом деле, для того лишь чтобы ему понравиться, начать жаловаться на несварение желудка или на бледную немочь. А он был худ и пропитан горечью, он был зол на общество, глупые кутежи и бессильные пороки которого ему приходилось не только слишком близко наблюдать, но и обслуживать.
Вернувшись из этих пьяных клоак, он не мог есть без тошноты даже тот кусок хлеба, который он там заработал: от хлеба несло потом гулящих девок.
Ему хотелось подложить динамитную шашку под зад всему миру. И это желание еще усиливалось от общения с товарищами по ярму, с рабочими, с которыми он сблизился за последнее время…
Один из них оказывал на Марка известное влияние в той мере, в какой вообще можно было влиять на такого мрачного юношу, как Марк. Эжен Массой мало чем отличался от него в этом отношении. Они познакомились ночью в метро, потом часто вместе возвращались с работы, часа в два, в три ночи, и шагали пешком через весь Париж. Массой работал в газетной типографии и устроил туда же Марка, когда Марк был уволен из своего ночного заведения за то, что не сумел скрыть своего презрения к посетителям (с одним из них он подрался). Газета, правда, была ультрашовинистская, она пропагандировала империалистические замыслы делового мира и нападала на все идеи Марка и Массона. Но дирекцию не интересовало, какие идеи приходят в голову рабочим за пределами типографии, да и приходят ли вообще. Дирекции было неважно, что они живые люди и имеют право думать. Делай свое дело!
За это тебе платят – и аккуратно. Вот все, чего Марк и Массой могли требовать от дирекции. Восстание далеко еще не назрело. И еще меньше созрела идея отказа от сотрудничества, к которому призывал Ганди. Кого это могло интересовать в Париже? И кто стал бы взывать к героизму самоотречения, к отказу от хлеба, если хлеб должен быть заработан таким трудом, с которым не мирится совесть? Между тем в парижском народе таится гораздо больше нерастраченного героизма, чем об этом подозревают его дряблые руководители и даже он сам! Не находя себе применения, этот героизм переходит в горечь.
Горечь Массона имела то преимущество перед горечью Марка, что ее оправдывал более жестокий жизненный опыт. Молодой рабочий был отравлен газами на войне; смерть была у него в крови. И он весь был полон ненависти к отвратительному эгоизму, к апатии французов, которые прошли через такие страшные испытания и ничего не делали, чтобы предотвратить их повторение. Он был особенно враждебно настроен против касты Марка, против молодых буржуазных интеллигентов (и против старых тоже. Но о тех и говорить не стоило! Смерть сама позаботится об этих старых клячах…). Он со страстным сарказмом говорил об их умственном гедонизме (он был начитан), об их равнодушии к страданиям мира, об этих лжеизбранниках, которые оказались предателями, об этих ни на что не годных паразитах, об этой гнили, которая проедает остатки награбленного добра!.. У Марка были все основания признавать справедливость этих обвинении; он и сам (еще так недавно!) жил крохами; при этом унизительном воспоминании снова вспыхивала в нем злоба на Сильвию. Тем не менее из инстинктивного чувства солидарности – правда, уже отвергаемого его взбунтовавшимся сознанием – Марк начинал перечислять заслуги интеллигенции, отстаивал ее право на существование. Но когда в ответ на злые и ядовитые насмешки Массона он старался вытащить лучших представителей интеллигенции из их уютного нейтралитета, охраняемого укреплениями из книг, когда он пытался заставить их действовать, ему пришлось в конце концов к стыду своему признать, что по отношению к интеллигентскому племени самые суровые слова кажутся слишком мягкими. Почти все эти интеллигенты имели возможность видеть ясней и дальше, чем другие. Многие располагали и временем для этого. И народ с благодарностью последовал бы за любым несвоекорыстным вожаком. Но они больше всего боялись именно того, что за ними последует армия, готовая действовать слишком решительно, и она будет их подталкивать сзади и поставит в затруднительное положение. Они притворялись, что смотрят в другую сторону: «Я ничего не видел…» Они позорно уклонялись из боязни ответственности. Следовало бы выжечь у них на лбу каленым железом… Даже те молодые писатели из числа известных Марку, которые готовы были принять участие в политической деятельности ради того, чтобы блеснуть своим «гуманизмом», – даже и они по-настоящему не примыкали ни к одной партии.
Они сидели на нескольких стульях сразу, будь то радикализм, социализм, интернационализм или национализм. Время от времени, под прикрытием старого французского классицизма, они перебегали в ряды литературы роялистской, ибо она была хозяйкой в прессе и на выборах в академию. Пройдя определенный стаж двусмысленного подмигивания прохожим на самых разных улицах, они приступали к делу согласно обычаям этой профессии: во всех случаях каждый находил себе подходящее местечко. Париж являл картину всех ступеней интеллектуальной проституции – от газетных домов терпимости, где шарлатаны получали жирные оклады за то, что отравляли своей гнусной ложью неразборчивую широкую публику, вплоть до дорогих кокоток из академии и литературных салонов, искусно разводивших вирусы «добровольного», но не бескорыстного рабства и общего паралича. Короче говоря, их скрытая функция заключалась в том, чтобы отвлекать, уводить от деятельности. А для достижения этой цели все средства были хороши. Даже мысль. Даже деятельность!.. Как это ни казалось парадоксальным, страсть к спорту приводила в конечном счете к бездействию. Опьянение физической активностью и движением ради движения отводило самые бурные потоки энергии от их естественного русла, исчерпывало их на стадионе или же выливало в сточные трубы, прежде чем обрывался их бешеный бег. Этой заразе поддался и народ. Когда Массон издевался над гнусностью буржуазной интеллигенции, Марку нетрудно было отвечать ему насмешками над рабочими, которые тоже тупели от спорта. Спорт довершал разрушительную работу газет. Он создавал армию людей, отравленных и бесполезных. Большие клубы скупали, как скупают лошадей, целые конюшни профессионалов, которых они именовали любителями, и составляли из них футбольные команды. Тысячи трудящихся в расцвете сил бесстыдно продавали свои мускулы. В качестве международных футболистов они пользовались всеми благами роскошной жизни, первоклассными отелями, спальными вагонами, вплоть до той минуты, когда они преждевременно утрачивали гибкость мускулов. Тогда их рыночная стоимость падала до нуля и их выбрасывали на свалку, как это делали в древнем Риме с гладиатором, который превращался в падаль. Но гладиаторы по крайней мере были уже мертвы. А люди, загубившие жизнь на современных аренах, переживали сами себя. Толпа, ходившая на зрелища, интересовалась ими не больше, чем римская чернь интересовалась гладиаторами. Она требовала все новых и новых атлетов. И на этих зрелищах она растрачивала всю страсть, всю ярость, которые при надлежащем руководстве могли бы опрокинуть мир социального угнетения. Она вносила в международные матчи губительный шовинизм: игры превращались в бои. Бывали убитые. Нападающие в регби вели себя так, словно они ворвались в неприятельскую траншею. Вот, оказывается, во имя чего прошли под Триумфальной аркой те, кто не погиб на фронте! Вот чем кончились их клятвы взять в свои руки управление государством и перестроить общество! Они даже не получили раnеt et circensec.[102 - Хлеба и зрелищ (лат.).] Хлеб им приходилось зарабатывать. А за circenses они должны были платить. Со времен Менения Агриппы эксплуатация ротозейства и глупости человеческой продвинулась далеко вперед. Нет, у Массона было так же мало оснований гордиться рабочим людом, как у Марка своими буржуа. Когда Массон начинал поучать своих товарищей по типографии, они отвечали ему солеными словцами, не давая себе труда вступать с ним в спор.
Старый фронтовой товарищ, единственный, кто еще удостаивал его ответом, только пожимал плечами:
– Чего ты хочешь? Чтобы мы еще раз подставили головы? Опять за чужие права? Будет! С меня довольно! Теперь я уж не такой болван, заботиться о других не стану! Я забочусь о себе. Каждый за себя!
Им обоим, и Марку и Массону, с горечью клеймившим эгоизм своих классов, не хватало, однако, решимости самим отказаться от врожденной склонности к игре в свободу, которая представляла собой лишь особую форму эгоизма и сводила на нет все их бунтарство. Французу, даже когда он отрешился от наиболее распространенных предрассудков, нужно очень большое усилие, чтобы заключить себя в определенные рамки, подчинить себя дисциплине какой-нибудь партии. Слабость французского довоенного социализма была результатом непрочности и внутрипартийных связей, которые объединяли членов партии лишь условно и не могли спаять их в решающие минуты.
Война внушила Массону желание не подчиняться больше никогда, нигде, никому, никакому хозяину, никакой партийной дисциплине, принадлежать одному себе, только себе… А в таком случае как же рассчитывать на других?
Допустить, что другие, даже в его собственном классе, такие же угнетенные, как он, будут действовать солидарно, оставаясь каждый сам по себе, не отрекаясь от своего «я» во имя добровольного подчинения какому-нибудь приказу, диктатуре какой-нибудь партии, было самой несбыточной из всех мыслимых надежд. Самые бурные коллективные порывы кратковременны, – их обессиливает самая их бурность; если их не сдерживает твердая рука, они ослабевают на много раньше, чем достигнут цели, и тогда происходит еще более глубокое падение: брошенный камень всегда падает ниже того уровня, с которого он вылетел. Но слишком уж давно утратила революционная Франция навыки практического действия. А война внушала ей глубочайшее отвращение ко всяким правилам боя. Все, что свободным умам напоминало военную муштру, рождало в них ненависть и отвергалось. Одни только консерваторы и шовинисты извлекали отсюда полезный урок. Положение было выгодным для Реакции. Свобода выковывала себе удила, но в то же время не допускала, чтобы избранный вождь оседлал ее и повел к победе. Массон не смог удержаться ни в одной профессиональной рабочей организации: те, что существовали с довоенного времени, перестраивались с огромным трудом, а новые только тем и занимались, что ставили одна другой палки в колеса… Марк – он был воплощением принципа «сам по себе». Отсюда проистекала вся его слабость. Но и вся его сила. Казалось, он так и не сможет отрешиться от своей слабости, не отрешившись от своей силы и не утратив смысла собственного существования. Не видно было никакого выхода из тупика, в который обоих товарищей привела резкая критика общественного устройства.
Да и товарищами они были только по бессильному отрицанию. Деятельности, приносящей облегчение, они не знали. И еще неизвестно, пошли ли бы они на необходимые уступки друг другу, чтобы координировать свои действия, если бы даже они были способны действовать? Этому надо научиться. А у кого могли они научиться? Во Франции не было ни одной школы, где учили бы действовать. Были только мастера поговорить. В этой отрасли каждый француз знает достаточно для того, чтобы учить других. Марк и Массон питали отвращение к словам. Но они все-таки говорили. За отсутствием деятельности! Они все говорили и говорили о действии, которого не совершали, которого не могли совершить. После этого они чувствовали себя опустошенными, каждый испытывал отвращение и к себе и к другому… Деятельность! Деятельность! О чреве, ждущее оплодотворения!..