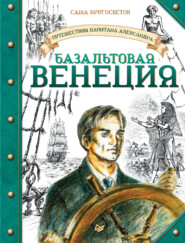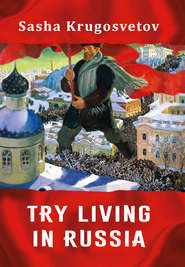По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Цветные рассказы. Том 1
Автор
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, я сказал – помогу, хочэшь вына? Дался тэбэ Касрадзе, он что тэбэ – родствэнник, сват, брат? Подожди, сейчас последний тост…
…Что ты думаешь, у мэня душа за Касрадзе болит мэньшэ, чем у тэбя? Он же там замэрзаэт, бэдный Гыви, как поларнык на льдынэ. За здоровье Гыви!
Нэт, нэ бэспокойся, ыды сэбэ спокойно. Вначале я должэн сдэлать свое дэло. Выдышь, только сейчас с дэвушкой познакомился. Посмотры какая: брючкы бэлэнькиэ, блузка бэлэнькая, сама тоже бэлэнькая.
– Павлык должэн сдэлать свое дэло, ты его обыжаешь. А Касрадзе очэнь надо помочь, – объясняет кто-то из участников застолья.
– Ладно, ладно, с дэвушкой поэду. Я этого Касрадзе ногтями выцарапую. Вот она идет уже.
Садятся в машину. Слышен истерический смех девушки, переходящий в пьяное рыдание.
– Куда, куда ты поехал, да не в ту сторону! Уехал. Бедный Касрадзе.
Серые рассказы
Придет время, и она возьмет нас в свой замок
Меня чрезвычайно интересует все жалостное и убогое.
Д. Сэлинджер. «Тебе, Эсме, – с любовью и убожеством»
В Академическом театре драмы на канале Грибоедова разразился грандиозный скандал. Вообще-то, до поры до времени театр этот совсем даже не был Академическим. Но в 60-е годы какой-то шустрый администратор подсуетился в отделе культуры горкома и при регистрации устава вписал в название театра важное словечко «Академический», что давало возможность получить дополнительные государственные льготы и самые высокие ставки для руководства, актеров и режиссеров. Может быть, удалось тогда выбить приличные ставки и для работников сцены, вахтеров и прочего, как теперь говорят, «планктона», но это, в конечном счете, уже почти даже и не важно. Проскочило. В наше время никто уже не задумывается, почему этот театр стал вдруг Академическим? С другой стороны, театр был неплохой, что бы о нем ни говорили. Очень неплохой. Даже более, чем неплохой.
Но дело не в этом. Вернемся к скандалу. Скандал был связан с тем, что заслуженного артиста СССР Вольфа Яновича Бельского застали после спектакля на служебной лестнице в непотребной позиции с Анастасией Светляковой, молодой актрисой, только что перешедшей в этот театр. Если бы только это. Видавший всякое театральный народ посмеялся бы и вскоре забыл об этом происшествии – эка невидаль! Ах, там еще и адюльтер – ну так что? Но дело этим не ограничилось. Бельский, видимо, почувствовал в белокожей, игривой Насте огромную, грандиозную женскую натуру. Женщину с большой буквы. Так, во всяком случае, сообщают нам вездесущие театральные резонеры. Наверное, именно так оно и было на самом деле, нам трудно судить об этом, тем более теперь, по прошествии стольких лет. Бельский привел Настю домой и представил ее своей интеллигентной маме. Представил очень даже серьезно. Милая старушка всплеснула руками: «Волечка, твоя Настя, конечно, чудо как хороша, но как же Лиза?».
Действительно, как быть с Лизой? Лиза Шибанова – уважаемая актриса, тоже, между прочим, заслуженная, очень даже заслуженная, может быть, даже более заслуженная, чем тот же Бельский – гражданская жена Вольфа Яновича (гражданская в том смысле, что без церковного брака, у кого в те времена был церковный брак?), законная, так сказать, супруга, старше его почти на десять лет, весьма достойная дама, с которой они жили – душа в душу по большому счету – уже без малого семь лет. Мама спросила Вольфа Яновича о Лизе. Она не могла спросить его о перспективном молодом режиссере Данечке Львове, тоже законном по всем статьям муже Насти аж с первого курса Театрального института. Не спросила, потому что ничего не знала о Насте, а тем более – о ее муже. А очень даже надо было бы подумать и об этом, потому что поженились молодые люди по любви, может быть – и не первой, по одной из первых любовей, из тех, которые, как может показаться, приходят раз и навсегда, не исключено, что на всю жизнь. Нет, так, видимо, с налету не рассказать об этом скандале. Тем более, что разразившийся и даже в какой-то мере разбушевавшийся скандал, в конце концов, больше всего ударил не по основным участникам представления за кулисами, а совсем по другим людям. Начну все по порядку.
Марина Шитикова задержалась в своей гримерной после спектакля «Бесприданница», где она играла главную роль – Ларису Дмитриевну. После спектакля? Нет, это еще не настоящий спектакль, генеральная репетиция, можно сказать – прогон. Марина старше своей героини года на три. Но сама она еще совсем молодая. Стройная, звенящая… Полное имя – Мариула Аркадьевна. Именем отчеством обязана своей бабке цыганке. Аркадий – имя, которая та дала собственному сыну, отцу девочки, Мариула – на этом имени тоже бабка настояла. Мариула! По паспорту… Но все называли ее Маринкой.
Маринка совсем не похожа на цыганку – большие, светлые, печальные глаза с немного набрякшими веками, бледное лицо, серо-пепельные волосы, полные губы, прямой аккуратный носик… От цыганского племени ей достался довольно тяжелый подбородок с запавшими как у Марлен Дитрих щеками… И пение… И гитара… И непрекращающаяся цыганская тоска, которая всегда жила у нее в душе. Марина рано потеряла родителей. Росла почти сиротой. Жила у бабушки – не у той цыганской бабки, что дала девочке неестественно знойное имя Мариула, назвала Мариулой – словно выполнила свое главное жизненное предназначение – да и скончалась вскоре. А у обычной русской бабульки, матушки ее матери, у терпеливой Матрены, которая привычно всю жизнь тянула свою лямку, была внучке и бабкой, и матерью, и отцом. Что она могла дать девочке? Заботу и любовь. Больше у нее ничего и не было. Но разве это так мало? Выросла внучка справная. Ладная да покладистая. Тихая и задумчивая. С детства знала откуда-то совершенно точно, была уверена в том, что непременно станет актрисой. Поступила после школы в студию Театра на Грибоедова и с 20 лет уже выходила на сцену. И что за роли ей доставались? – одна другой лучше. С завистью поглядывали на нее смазливые сокурсницы – конкурентки по сценическому цеху.
Только закончился последний прогон «Бесприданницы». Маринка пела, играла на гитаре, любила, страдала, плакала и умирала. Главреж Георгий Яковлевич Шаргородский был в восторге. Всякие заслуженные да народные смотрели удивленно, некоторые с уважением: такая молодая, а, поди же ты… Пожилые матроны злились – они, несомненно, сыграли бы лучше, однако… Этот пожилой сластолюбец Жора… Он предпочитает, конечно, натуру более свежую, в этом вся причина… Молодые актрисы – все как на подбор красотки, им надо биться за место под солнцем – смотрели во все глаза, очень хотелось поймать на ошибке, фальши, разнести, расшушукать, припечатать, съесть, обглодать и съесть… И косточки выбросить. Такие хорошенькие, юные, голодные волчицы.
Маринка очень талантлива. Сама она никогда так о себе не думала. Просто любила свою работу и всем сердцем проживала каждую роль на сцене. А вне сцены казалась немного отстраненной. Чувства, эмоции, переживания как бы миновали ее в жизни, оставались на втором плане. Словно это ненастоящие переживания, будто бы не всерьез. Её собственные чувства и эмоции оставались у ее героинь, будто всё, что дала ей природа, всё, что может быть в сердце пылкой, верящей, любящей, скорбящей и страдающей женщины, всё это сохранялось ею для театра и выплескивалось только на сцене.
Молодая актриса рассматривала в зеркале свое лицо, крохотные преждевременные морщинки и думала о своих проблемах. А проблем у нее хватало. Поначалу все складывалось вроде неплохо. Вначале была бабушка. Потом – близкая подруга, рыжая Светка – огромная, мужиковатая, веснушчатая девица, синеглазая с красноватыми веками, немного старше Маринки. Светка опекала ее как старшая сестра. Опекала, ездила с ней в Крым на каникулы. Было что-то от мужского покровительства в ее отношении к младшей подруге, но ничего «такого» между ними не было. В студии Марина познакомилась с Артемом. Ее ровесник, веселый, разбитной, отвязный малый, будучи студентом, он рано начал сниматься в кино. Рано стал известен, сыграв роль хулиганистого мальчишки – цыгана в фильме о школе для беспризорников. Появился Тема – ушла из жизни бабушка, так совпало, оставив внучке крошечную однокомнатную квартиру в старом доме рядом с Кировским театром. Поступила в Строительный институт и уехала в Москву Светка. Обзавелась там новой подругой. Но у Маринки к тому времени уже была своя семья. В первый же год они с Тёмой решили завести малыша. Решили завести – или завели, а потом решили – какая разница? Маринка ходила хорошо, пятен, тошноты не было, животика почти не было видно, работала на сцене до последнего. Всего лишь три недели посидела дома. Ждали мальчика. Решили назвать Темой, как и отца. Но Господь не дал им дитя – ребенок родился мертвым. Маринка очень переживала. Бегала в церковь, молилась, плакала. Долго не могла работать. Но время лечит. Снова пришла в театр, пришла все-таки. Стала готовить новые роли.
У Артема тем временем его собственные театральные дела шли неплохо. До поры до времени. До тех пор, пока на репетиции ему на голову не упал плохо закрепленный осветительный прибор. Прибор пробил голову. После операции и лечения на виске образовалась заметная вмятина. Потом опухоль. Опять – операция, долгое лечение. Артем стал совсем не тот. Очень изменился. Будто из него вынули его веселую, бесшабашную душу. С виду – тот же самый Тема. Тот – да не тот. Все как раньше. А как будто он не здесь вовсе. Будто отсутствует и постоянно находится где-то в другом месте. Будто глубоко задумался наш Тема… И когда ему задавали какой-то вопрос, долго пытался понять, о чем его спрашивают… Марина старалась окружить его заботой, но тот как бы не обращал на это внимания, оставался безразличным и замкнутым. Часто уходил из дома, оставался на несколько дней у своей матери, Калерии Ивановны. Маринка жалела его. И когда оставалась одна, подолгу плакала от того, что не могла уже любить Тёму так, как любила его раньше.
И тут во весь рост поднимается гигантская фигура Калерии Ивановны. Почему гигантская? Кто такая эта Калерия Ивановна? Вы не знаете, кто такая Калерия Ивановна? Ну, значит, вы ничего не знаете о театральном мире Ленинграда в шестидесятые годы. Калерия Ивановна – жена самого Цезаря Ильича, почившего в бозе в начале шестидесятых, великого руководителя цирка Чинизелли, а потом и Ленконцерта, единственной коммерческой организации культурного профиля в советское время. Работала ли где-нибудь, когда-нибудь сама Калерия Ивановна, имела ли она хоть какое-то образование или профессию, об этом, увы, мы ничего не знаем. Калерия Ивановна во всем была типичной генеральшей, женой генерала культурного мира. Свои замашки и манеры сохранила и после ухода Цезаря Ильича. Любимые фразы: «Цезарь Ильич считал…», «Цезарь Ильич говорил…», «Цезарь Ильич никогда бы этого не одобрил». До сих пор генеральша от культуры ногой распахивает дверь в кабинет самого Стрижа, руководителя Всероссийского театрального общества (ВТО), одной из старейших творческих организаций театральных деятелей РСФСР.
С первого взгляда, с первого дня их знакомства Калерия Ивановна невзлюбила невестку. Тихая, неразговорчивая. В глаза свекрови не заглядывает. Не прогибается. Подарки не носит. Даже не старается дружить. Что? Талантливая актриса? Да вы посмотрите на нее. Разве она похожа на Комиссаржевскую, на Ермолову? Вот это были женщины – взгляд, голос, стать – царицы театра! Из современных – Быстрицкая, Скобцева… А эта? Ни тебе переда, ни зада. Ручки тонкие, попка шильцем. А какая жена? Разве она следит за Тёмкой? Рубашки не глажены, дома вечно нечего поесть, холодильник пустой. Только одно название – жена. Не знаю, не знаю, в тихом омуте… – может, и налево ходит. Вон и ребенка выносить не смогла. Конечно, – вечно репетиции, спектакли, мужа не кормит, и сама ничего не жрёт. Не надо было до девятого месяца в театр бегать. А вот теперь эта новая напасть на голову моего бедного Тёмушки. Не виновата, не виновата… Рука у нее нелегкая – вот что! Она всем несчастья приносит. Глаз цыганский. Не надо было Тёме жениться на ней. Что он в ней нашел? И я-то, старая дура, куда глядела? Он сопли распустил – красивая, талантливая, кроткая… – тьфу, не с лица есть. Не очень-то она выхаживала моего Тёму по больницам. Вот он ко мне и переехал. Потому что уход требуется. А она все в театре. Нет, и сейчас ко мне заходит. Ну, не ко мне – к Тёме. Заскочит, поцелует, обнимет, гостинцев принесет и бегом-бегом. Поплачет иногда – гадость какая! Крокодиловы слезы. Ну, я еще доберусь до тебя. Не видать тебе Академического театра как своих ушей.
Конечно, напрямую все эти суждения и обличительные децимы Калерия Ивановна Маришке не озвучивала. Хватало доброхотов, чтобы донести сладкую сплетню до Маринкиных ушей. Но и в глаза много говорилось в этом духе, свекровь нередко выговаривала невестке, не особенно стесняясь в выражениях.
Вот такие грустные воспоминания посещали милую Маринкину головку. В свои неполные двадцать три она уже немало намыкалась и многое испытала. «Зато спектакль хорошо прошел, – думала она. – К черту грустные мысли. Лариса Дмитриевна тоже получилась. Вполне все получилось. Даже «волчицы» хлопали. И Тёма пришел на прогон, тоже хлопал. Говорю ему: пойдем со мной. Нехорошо мне, Маринка, побуду пока у мамы. Все равно после премьеры заберу его к нам, домой – хотя бы на недельку. Он убегает от меня, стесняется, потому что не в форме. Чего ему, дурачку, меня стесняться?
И эта новенькая – Светлякова, что из Малого драматического на Мойке, тоже на прогон пришла… Талантливая девочка. Там, в Малом, играла Клею из Эзопа. Я видела.
Голос у Насти густой, мелодичный. Движения – отточенные и размытые… изящные и угловатые одновременно. Шея и плечи – будто молоком облитые. Юная царица, настоящая царица! И наш заслуженный, Вольф Янович, тоже мне аплодировал стоя. Настроение у Маринки неплохое. Да что там неплохое… Давно она не испытывала такого подъема. Сама не своя, голова идет кругом… Теперь домой. И отдыхать. Завтра премьера, надо быть в форме. К черту дурные мысли». В хорошем настроении актриса поднялась и вышла из гримерной. Театр пуст, все давно ушли.
Именно тогда, спускаясь по лестнице, она и оказалась свидетелем этой откровенной и, по моему мнению, довольно неприличной сцены. Да, это был именно Вольф Бельский. Фортинбрас. Почему-то именно так называли его, – по имени персонажа из «Гамлета» – хотя Бельский никогда в «Гамлете» не играл. Фортинбрасу – за тридцать. Заслуженный. Всегда наглухо застегнутый, в рубашке с галстуком, в костюме, плотно облегающем крепкую фигуру. Аккуратная стрижка, безупречно подстриженные усики и бородка клинышком. В театре его любили за интеллигентность, за хриплый гортанный голос, которым он пел старинный студенческий гимн Гаудеамус. За доброту сильного человека, за детскую непосредственность и даже наивность. Снобливые молодые актеры часто подшучивали над ним. «Вольф Янович, вы видели эту ерунду, что французы на кинофестиваль привезли? Какая безвкусица – «Розовый телефон» называется». Бельский удивлялся: «Безвкусица? Не знаю, – а мне понравилось». Уважали его и за трепетное отношение к маме. Которую он встречал и провожал. И внимательно следил, чтобы ей удобно было входить в транспорт. За то, что никогда не стеснялся показывать свою сыновнюю привязанность. За его молодецкие акробатические номера на сцене – рондад, колесо, переворот на одной руке, мастерское владение саблей. Один молодой актер говорил:
«Мне все равно, какой у него голос, какой рондад он крутит. Смотрю на него и вижу: мужик с а-гром-ными яйцами. Вольф – нормальный парень!».
Вот он, Вольф. С Настей. Вместе в свое время играли в Малом. Он – Эзопа, она – Клею. И сейчас вместе. Так спешили, что раздеться, как следует, не успели. Фортинбрас выглядел довольно смешно. Он стоял у окна в наглухо застегнутом пиджаке, в начищенных туфлях, со спущенными брюками и спущенными же трусами в цветную сине-зеленую полоску. Настя сидела на подоконнике, белые прожектора пухлых ног в туфлях на толстой подошве закинуты на плечи заслуженного артиста. Трусики тоже не успели снять. Они застряли как раз на уровне головы Фортинбраса, заслоняя от его взгляда раскрасневшееся – кровь с молоком – Настино личико. Вольф Янович хрипло порыкивал, ударяясь острым профилем в белые трусики, натянутые небольшим белым парусом между коленей Насти. Рядом у стены стояла сабля, которой совсем недавно Бельский так лихо размахивал на сцене. Марина невольно рассмеялась, увидев эту забавную картинку. «Вольф Янович, вам не надо помочь?». «Проходи, что стала, лярва?». «Да не сердитесь вы, Фортинбрас Янович, я помогу. Все в порядке, Настя, не нервничай». Маринка аккуратно подняла вдоль ног и сняла Настины трусики. «Вот так-то лучше, ребята. Совсем другой обзор». Фортинбрас дико крутанул ей вслед глазами. Маринка тряхнула головой и, тихо улыбаясь, двинулась в сторону дома. Вдруг до нее дошло – это же происходило на самом деле, взаправду, не на сцене, вовсе не на сцене… Она вся похолодела. Какой ужас! Марина, Марина, что с тобой случилось? Зачем ты так поступила? С ума сошла… Как ты могла? Совсем голову от радости потеряла. Нет, чтобы отвернуться, пройти мимо, сделать вид, будто ничего не заметила… Настроение безвозвратно испортилось – не от того, что оказалась свидетелем непрезентабельной сцены, а от ощущения собственной…
«гадости, мерзости, иначе это никак и не назовешь». Но людям свойственно прощать… Все прощать, особенно себе любимым. И Маринка тоже себя простила. «Какая ерунда, ну пошутила… Может быть, не совсем удачно…» Только другие не простили.
Казалось бы, на этом все могло и закончиться. Потешное, но не очень значительное по масштабам Академического театра (давно привыкшего к гораздо более интригующим и сложным любовным закулисным интригам) происшествие не могло иметь какого-либо значительного резонанса. Но оно, во-первых, быстро стало известно. Вы, конечно, подумаете – почему бы и нет? – Маринка тут же нашептала об этом своим подружкам. Мы бы тоже так подумали. Но совсем не Маринка стала виной и источником быстрого распространения слухов. Подружек у нее не появлялось с тех самых пор, как рыжая Светка укатила в Москву. Маринка вообще была не болтлива, и даже мужу Тёме она об этом происшествии ничего не сказала. Однако, факт остается фактом. Слухи быстро распространялись, в деталях обсуждались в кулуарах и даже – какое безобразие! – выплеснулись далеко за пределы театра – это можно сказать, во-вторых. Заслуженный старательно обходил Маринку и лишь иногда выкатывал на нее озверевший бычий глаз. А Настя делала непроницаемое лицо и старательно не замечала Маринку.
Прошло несколько дней. «Шитикова, в профком!» – крикнул кто-то за кулисами.
Маринку приняла сама Елена Евстафьевна Дерюжко, председатель профкома, немалая, между прочим, величина в иерархии Академического театра. Когда-то Леночка Дерюжко была начинающей актрисой и неплохо сыграла в кино простую советскую девушку, ставшую партизанкой и отважно бившуюся в лесах Белоруссии с немецко-фашистскими захватчиками. Стала известна на всю страну, чего-то даже была удостоена. Рассудительная Леночка решила, что ей вполне достаточно актерской славы, другой выигрышной роли может и не быть, и надумала пойти по общественной линии. Она быстро заматерела, располнела и, самое главное – набрала немалый вес в решении важнейших вопросов жизни театра. Ну и конечно, очень скоро стала заслуженной, не в пример многим другим недальновидным скромным пахарям сцены. Сам Шаргородский прислушивался к голосу Е. Дерюжко и считался с ее мнением… Предоставление жилплощади, прием в труппу лимитчиков, касса взаимопомощи, моральный облик актеров, репертуарная комиссия, да мало ли какие важные вопросы никак не могли решаться без учета ее, Елены Евстафьевны, точки зрения. Она бегала советоваться и во дворец Профсоюзов на площади Труда и даже имела какие-то дела с инструкторами и секретарями обкома партии. По вопросам культуры, конечно. В общем, ни одно важное событие в театре не обходилось без нее.
Елена Евстафьевна приняла Маринку в своем кабинете. Выглядела скромно и достойно. Светлые волосы безупречно уложены и стянуты сзади в кичку, открывая чистую линию правильного лба. Предложила сесть на стульчик рядом со своим темным массивным столом. Долго молчала, перелистывала какие-то свои очень важные бумаги. Потом подняла на Марину глаза и строго спросила:
– Ну, что скажешь, Шитикова?
Марина подумала, что будут опять спрашивать про мужа.
– О чем вы, Елена Евстафьевна?
– А ты не знаешь? Что случилось два дня назад после генеральной репетиции?
– Ничего особенного. Я задержалась дольше обычного, обдумывала, как прошел прогон. Собралась и пошла домой.
– А как ты выходила из театра?
– Как обычно – по служебной лестнице.
– И ничего там не заметила, никого не встретила?
– Театр был пустой, все ушли. Ах, да. На лестнице встретила Вольфа Яновича и Настю…
– И что они там делали в столь позднее время?
– Не знаю, Елена Евстафьевна. Стояли у окна. Наверное, говорили о чем-то.
– И ничего такого ты не заметила?
– Что вы имеете в виду? Ничего особенного я не заметила.
– Ну-ну, Шитикова, ты не финти.
– А что я могла заметить?
– Ладно, ладно, Шитикова. В последнее время ты ведешь себя вызывающе. А надо бы поддерживать контакты с общественными организациями. Ты комсомолка?