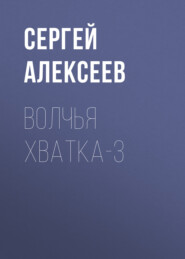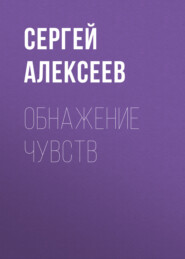По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Материк
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дядя Миша осекся, покорно вздохнул, ссутулившись, и проронил:
– Можно и веселее…
Мать же сдернула с головы платок, встряхнула косами, отчего те как-то сразу распустились, рассыпались холстяной дорожкой.
Эх, да как по речке, да по водице
Сизый селезень плывет…
Мать взмахнула платком, подперлась руками и, не слезая с телеги, – показалось мне – в пляс пошла! И будто каблуками отстукивает, и ее высокая, под кофточкой, полная молока грудь (в то время младшенький Пашка грудничком был) так и вздрагивает, как у баб, что на гулянке на круг вышли и ну друг перед другом выплясывать! А тут еще мы песчаную дорогу по бору проехали – осинник пошел, ухабины и колдобины. «Черный ящик» растрясло, зазвенел он, заговорил, словно отцовская русская гармошка! Я сразу почуял, что никто никогда не умрет и что возле моего бока стоит сидор с горячим хлебом и греет сквозь одежду. Дядя Миша понужнул коня длинным рукавом дождевика, пегаш наддал, и «музыка» еще четче и задорнее стала выводить:
Эх, да по речке, да по водице
Сизый селезень плывет!..
– Мабудь, и я зпою? – кого-то спросил дядя Миша. – Тильки свою, а?
Шляпа у него съехала набок от тряски, обнажив хилый, но кудрявый чуб, а капля оторвалась от носа и шлепнулась под телегу.
Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела,
Ты ж мене, молодого, з ума-разуму свела!
Дядя Миша бросил вожжи и начал хлопать в ладоши. Руки у него были корявые, пальцы до конца не распрямлялись и стояли врастопырку, отчего хлопанье получалось жидкое, но все равно мне показалось, что дядя Миша Зпокосу пошел вокруг матери вприсядку. Пегаш наддал ходу сам, без понуканий, и только зеленые от поноса ноги замелькали.
И странное дело: «музыка» подыгрывала матери и дяде Мише одновременно, – наверное, в ней хватало струн на все мотивы. И тогда мне тоже захотелось петь.
– Сизый селезень плывет! – заорал я. – По речке сизый селезень плывет!
Мать засмеялась, подмигнула мне зазывающе, но я смутился: подпевать ей у меня не получалось и музыку перекрикивал.
– Давай, Серенька! – подбодрила мать. Тогда я запел свою песню:
Куба, любовь моя,
Остров зари багровой!
Слышишь, поет под тобою земля,
Куба – любовь моя!
Эту песню (единственную) я знал наизусть и до конца. Мы пели ее на уроках пения, на школьной линейке, в классном хоре, в туалете и за мастерской, куда бегали курить. То была самая модная песня – на Кубе произошла революция…
Как здорово мы пели втроем! Пегаш чуть не выпрыгивал из оглобель, вожжи слетели на землю и теперь волочились между колес. Черный ящик играл так звонко и лихо, что куда там этому лилипутику с его плачущими восклицаниями! Кто сказал, что он расстроен? Да он еще как настроен! Эх, жаль, умерла тетя Фрося! Вот бы послушала!..
Как ладно мы пели! Непонятные мне мужики с диковинным званием «барбудас» чеканили шаг, и всей Кубе сразу становилось ясно, кто это идет. Тем более «вновь говорит вдохновенно Фидель: мужество знает цель!». Мужество знает цель! А какая-то девчонка – шмара дяди Миши – все обманывала его и подводила: то в среду скажет прийти, то в четверг. Дядя Миша Зпокосу ходит всю неделю, а шмары этой «нема», но дядя Миша все равно не обижается. Однако уж очень красиво получалось у матери, про сизого селезня. Я так и видел его, будто плывет он по Чети в самое половодье, а я на берегу, в скрадке, сижу с ружьем. Подплывает он ко мне, я прицеливаюсь, и – !!!
Так мы и не заметили, как домчались до лога. Заслышав нас, с писком взметнулись чирки, кувыркнулись и пропали в мелколесье. Пегаш галопом заскочил в воду, взбуровил ее грудью и, тяжело всхрапнув, ломанулся в оглоблях…
Дядя Миша запоздало царапнул пальцами то место, где были вожжи, и мы все разом замолкли. Только «черный ящик» немного еще гуднул и утих.
Опомнившись, мать схватила одной рукой меня, другой – сидор с хлебом и неловко взгромоздилась на рояль…
Телега увязла как раз посередине лога. Вода переливалась через нее бурным потоком, отчего «черный ящик» тихонько пел.
Дядя Миша Зпокосу матерился без всякого акцента и драл пегаша сыромятным бичом. Мы с матерью соскочили с повозки и по пояс в воде перешли на другую сторону лога. Конь бесполезно сучил ногами в топком песке, пробовал пятиться назад, но только вылазил из хомута и придушенно храпел.
– Шоб згорила чертова музыка! – ругался дядя Миша и, уперевшись спиной, толкал телегу. – Шоб ее вовки зъилы!
Пегаш, кажется, нащупал твердь и рванул чуть вбок. Оглобля хряснула ружейным выстрелом, дуга тут же упала на шею коня, а сам он, освобожденный, с пугливой поспешностью выскочил на сухое. Дяди Миша жалобно простонал и, вдруг поймав коня за узду, стал бить его по морде. Бедный пегаш танцевал, приседая на задние ноги, и смиренно клонил голову к земле.
– Ты что делаешь, паразит! – закричал я. – За что?!
– Молчи, сынок, – тихо проронила мать, – ты еще маленький…
Дядя Миша Зпокосу бросил пегаша и, забредя в воду, попробовал руками вытянуть телегу. Багровея от натуги, он поднимал задок, однако начинал тонуть сам, а повозка ни с места.
– Что же я стою? – спохватилась мать и бросилась на помощь. Мокрый подол ее платья облипал и путал ноги. На полпути она споткнулась и чуть не упала. У меня перехватило дыхание – утонет!
Она не успела добежать, как дядя Миша одним рывком столкнул «музыку» в воду. Черный ящик блеснул напоследок днищем со спиленными ножками и скрылся, выпустив огромный пузырь воздуха, будто опрокинувшаяся лодка…
Мы с матерью стояли у воды, пока дядя Миша Зпокосу не вытащил телегу и, кое-как связав сломанную оглоблю, не уехал назад в Торбу. Он сидел на передке, еще больше ссутулясь, а пегаш сам пошел в рысь, высоко забрасывая блестяще-белые, отмытые задние ноги. Поднятую со дна муть давно снесло течением, однако черная таежная вода лишь чуть просвечивалась. В двух метрах от берега я видел бронзово-желтый песок, красные, полузамытые лесины утонувшей гати, но там, где исчезла «музыка», вода лежала толстым угольным пластом…
– Слышишь? – спросила мать, настороженно всматриваясь в черноту воды. – Слышишь, звенит!
Я прислушался. Вода и в самом деле, кажется, тихонько позванивала, но звон в ушах от обиды и горя был сильнее. Я заплакал.
– Эх ты, ревунчик, – сказала мать, выжимая подол платья, – и так сыро, а ты еще…
Она осеклась и выпрямилась. На другой стороне лога стоял дядя Миша Зпокосу. Стоял один, без лошади, комкая в заскорузлых руках соломенную шляпу. Он троился у меня в глазах, и казалось, на той стороне стоит целый ряд печальных дядей Миш.
– Не плачь, хлопчик, – негромко сказали они. – Нехай она сгниет у болоте. Музыка-то немецькая, от германцив-фашистов прывизлы.
– Сам ты! Сам ты!.. – сквозь слезы прокричал я. – А у тебя гармошка немецкая!
Дядя Миша расплылся и пропал в соленом тумане. Я уткнулся в мокрый материн подол и ощутил на своей голове ее руку. От руки исходил жар, но он не жег, а только согревал и сушил слезы. В это время что-то булькнуло, словно кто-то бросил в воду тяжелый плоский камень.
– Пойдем, сынок, – тихо сказала мать, – нас дома с хлебом ждут. А когда вода спадет, мы приедем и вытащим музыку.
– От нее ничего не останется, – нараспев сказал я, чтобы не всхлипывать, – сгние-ет…
Дяди Миши на той стороне уже не было…
– Что-нибудь да останется, – успокоила мать. – Ты место заметил?
И вдруг она заторопилась, взвалила сидор с хлебом на плечи, оправила платье и замерла, прижав ладони к грудям.
– Ой, скорее…
На платье под пальцами матери расплывались два темных молочных круга…
Я оглянулся, чтобы еще раз заметить место.
От рояля осталась тяжелая металлическая станина со ржавыми охвостьями струн… Успокаивая меня и стараясь поскорее увести домой, мать не обманывала меня, как обманывают в таких случаях детей. Прошло семнадцать лет, семнадцать раз прибывала и уходила вода. Сколько ее утекло…