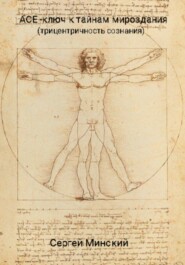По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дорогая пропажа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дорогая пропажа
Сергей Алексеевич Минский
Что Наташа и Паша – пара, такая же истина, как и та, что Солнце всходит и заходит. Но вернувшись из рядов Советской Армии, Паша вдруг заявляет, что хочет учиться в университете, и для этого ему необходимо уехать в областной город и три курса закончить на стационаре.Наташа чувствует себя униженной. С двумя подругами она уезжает по комсомольской путевке на Север. А через полгода, получив предложение руки и сердца от главного инженера шахты, выходит замуж.Через пятнадцать лет под Новый год – на рубеже смены тысячелетий – волей провидения дороги Павла и Наташи снова пересекаются.Содержит нецензурную брань.
ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ
1.
Билеты на поезд Наташа брала за две недели. Туда и обратно.
В светлом и уютном после студеной декабрьской темноты пространстве зала с междугородними кассами людей совсем немного. К одной так и вовсе две претенциозных в одежде дамы – из-под их дубленок свешивалось что-то наподобие вечерних платьев, девушка и мужик. Со спины – этот – ну, точно, мужик: с огромной головой, неряшливо одетый, его длинная худая шея торчит из когда-то белого, жутко выглядевшего нынче полушубка, без шарфа. «Странный какой-то типчик», – Наташа, поколебавшись, все же стала за ним, отметив с удовлетворением, что сегодня в ее душе день логики. Услышала – даже прислушиваться не пришлось – как мужик что-то, причмокивая, нашептывает сам себе. Он будто отчитывал кого-то беззлобно: типа, ну что ж ты, такой-сякой, не послушал меня… а-а… вот так-то, а послушал бы, так все бы у тебя было лучше и не придумать.
Наташа автоматически, даже не успев ни о чем подумать, отодвинулась, совсем забыв о том, что только секунду назад думала о логике. Появилось чувство гадливости от истекающего от человека тошнотворного запаха? И тут же напомнила о себе совесть. Как же она всегда появлялась не вовремя, всегда вводя сознание в ступор. Наташе становилось не по себе, когда оно – сознание – успевало пропустить инициированную пронырливым подсознанием негативную оценку. Почему не по себе? Да потому, что душа повторяла неприятный, пройденный неоднократно урок через круговорот смятения. А еще потому, что на помощь уже спешила для восстановления баланса «скорая помощь»: оправдательная философия – соломинка – спасительная реакция организма. «Следить за собой нужно… – подумала Наташа, – почему я должна с уважением относиться к нему, если он с неуважением относится ко мне?» Она, поколебавшись, словно соизмеряясь с не отступавшей от своего совестью, сделала еще полшага назад. «До чего же… отвратительно пахнет… – в ней что-то перемкнуло, – да, воняет, господи… кого я тут из себя строю?» Появилась даже тошнота. Подступила к горлу от кислого запаха давно нестиранной одежды, от дыма дешевого табака, въевшегося в овчину явно не фабричной выделки. Наташа вдруг, словно нейтрализуя промах, усмехнулась: «Поэтому и людей к этой кассе столько: видимо, другие не стали особо заморачиваться совестливостью».
Мужик резко, будто почувствовал, что о нем думают, обернулся, почти неслышно шевеля толстыми губами, странной деталью выступавшими на худом с мелкими чертами лице. Наташа машинально отпрянула, отступила еще на шаг назад. Успела рассмотреть физиономию соседа. Под его сизоватым носом и немного на округлом женоподобном подбородке пучками торчала редкая, кое-где с проседью рыжеватая растительность. Но эта растительность почему-то обошла своим вниманием чуть обвисавшие пухлые щеки. Они розовели почти как у подростка, несмотря на возраст их обладателя. "А этому, – подумала – ну, никак не меньше полтинника". Бессмысленно, продолжая шевелить толстыми губищами, мужик влез в Наташу своим пустым и, словно уже у дохлой рыбы, мутным взглядом.
И все в Наташе под этим молчаливым натиском, шедшим почему-то снизу – из-под солнечного сплетения, сжалось, все ее внутренности подступили под грудь, перехватив дыхание: она это ощутила физиологически, даже спазмы стали подступать к горлу. «Ненормальный какой-то». Ей, до этого больше руководившейся вездесущим разумом, чем чувствами, вдруг стало по-настоящему жутковато. Появилось желание перейти к другой кассе…
Но желание сразу же пропало, стоило претенциозным дамам впереди отойти от окошка: подумала – осталось немного, можно и потерпеть. Женщины, разглядывая билеты, подались влево, пропуская девушку. Оставалось всего двое: она и мужик. «Потерпишь, дорогая, нечего аристократку из себя корчить».
Девушка, серенькой мышкой прошмыгнувшая к кассе перед «кислым» мужиком, задержалась буквально на три минуты. Ну, от силы на четыре. Но «кислый»? Тот, пытаясь добиться своего, проторчал у окна минут десять, если не больше. Достал своей бестолковостью и невразумительной речью всех: и кассира, и Наташу, и тех, кто уже выстроился за ней. За спиной она слышала нелицеприятный ропот одних и соответствующие ситуации реплики других.
В конце концов, так и не добившись своего, несчастный мужик, чуть прихрамывая и шевеля как и прежде губами, отошел недовольный в сторону. Наташа вздохнула. С облегчением. Подошла к кассе и сразу же о нем забыла.
– Слушаю вас? – девушка улыбнулась Наташе, словно бы с благодарностью. Как будто именно ей была обязана тем, что ушел этот доставучий человек – такой неприятный, с такой отталкивающей внешностью и все же вызвавший к себе, казалось, неуместную жалость. И юное создание в железнодорожном жакете, обрамляющем ее на пике раскрытия женскую прелесть, вдруг увлажнило Наташину душу ностальгией. К ней – к душе как бы прикоснулось, просочившись сквозь наслоения лет, то время, когда Наташа и сама работала на «железке» – проводницей на линии «Москва–Воркута». С молоточками в петлицах. Словно бы вчера. Вот так же – в красивой форменной одежде, подчеркивавшей и ее, в общем, завидную фигуру, и, в частности, узкую, осиную талию, хорошую девственную грудь, и не менее хорошую… «Ну, с этим со всем у меня и сейчас пока все в порядке…»
– Мне на двадцать девятое, до Минска, один купейный, – она подождала, пока тонкие пальчики, с длинными накрашенными ноготками царапали клавиатуру, – И обратный – из Минска, на третье января… тоже купейный.
– Так… – девушка назвала стоимость билетов, номера поездов до Москвы и от Москвы, выдала дежурную, ничего уже не значившую улыбку с замусоленной фразой «счастливого пути».
– Спасибо, – Наташа шагнула чуть в сторону, по старой привычке пробежала глазами по столбцам цифр на листках и отошла, снова вздохнув облегченно: дело сделано. При этом в сознании мелькнул образ импозантного мужика. Но лишь на мгновение. Девушка с блестящими молоточками в обрамлении петлиц и покупка билетов, предполагавших поездку, навеяла ностальгию, заставила всколыхнуться давно забытое, уснувшее надолго в успокоенной благополучием душе чувство дороги. Захотелось пойти на перрон. Захотелось вдохнуть запах юности: втянуть носом этот разбавленный угольным дымком и креазотом воздух. Она поправила шаль, застегнула на все пуговицы дубленку и вышла из теплого кассового зала на освещенное фонарями внутреннее с утоптанным снегом морозное пространство вокзала и направилась к высокому перрону – туда, где стоял ее, но давно уже не ее «московский» скорый.
Вдруг показалось, что здесь уже всецело царит яркое предпраздничное оживление: словно до столь всеми ожидаемого Нового года в начинающемся новом тысячелетии еще не две недели, а уже часа два – не больше. Искрящийся отраженным светом ярких фонарей и гирлянд свежий снег, клочками пуха разбросанный по притоптанному промерзшему перрону, испуганно шарахался в стороны от торопливых ног. Беспрерывная полярная ночь и начищенные крепким морозным воздухом звезды на черной бесконечности неба рождали ощущение присутствия вечности. И от этого присутствия в сиюминутности житейской, такой глупой, такой с вездесущим налетом мещанства, такой, казалось бы, в данный момент неприемлемой суеты в душе исподволь возникал конфликт, внося в окружающую картину мира еще большую жизненность. Легкий запах креазота и угольного дыма, вертикально поднимавшегося над крышами вагонов, будили в Наташиной груди уснувшие до поры, но не истаявшие во времени чувства. А морозный, покалывающий ноздри воздух, словно лопающиеся пузырьки восхитительного от переполнявшего ощущения праздника шампанского, добавлял в них терпкости и остроты одновременно. Это бередило разбухшую чувствами душу, соединяя прекрасное прошлое с не менее прекрасным настоящим, отчего все, что в ней – в этой душе происходило, и начинало казаться долгим, как и сама вечность, настоящим.
«Господи, как же давно это все было! И как недавно», – Наташа бесцельно пошла по перрону. Окна с фирменными занавесками и провожающие, смешно жестикулировавшие около них. Девушки и парни в темно-синих, кажущихся черными шинелях у проемов вагонных дверей, занятые проверкой билетов и просто весело общавшиеся со своими коллегами из соседних вагонов. Группы и одинокие пассажиры с чемоданами и сумками, спешившие скорее занять свои теплые места. Это было так до боли знакомо, так томительно, с такой грустью отзывалось в сердце, и в то же время наполняло его радостью, что у Наташи, не имевшей возможности нейтрализовать иначе противоречивые чувства, увлажнились глаза. Наконец, после горделивого напоминания диктора, наступил апофеоз всего этого многогранного в своей сложности действа: поезд громыхнул многотонным металлом, стронулся с места и, набирая ход, стал все чаще повторять на стыках свое привычное «тук-дук, тук-дук».
«Все! Домой! Хватит с меня переживаний!» – Наташа вдруг ощутила дискомфорт. И от того, что начали проклевываться в памяти не те воспоминания, которые бы только радовали: как при этом обойтись без Пашиного в них присутствия, как без него вообще что-то может быть? И оттого, что пальцы ног начинали зябнуть даже в пимах, даже несмотря на шерстяные, почти новые, купленные этой осенью у домовитой соседки носочки: та говорила, что в нити вплетала собачью шерсть, обещала – будет тепло. А волоски мохеровой шали с осевшим на них от дыхания инеем, норовили неприятно коснуться щек, если нужно было повернуть голову. Тоже неприятно. Тепло кассового зала, недолго ощущавшееся под дубленкой, ушло, как и только что окрылявшее желание оказаться на стылом морозном перроне. Наташа заторопилась, прикрывая варежкой рот и нос от обжигающего воздуха. Обошла здание вокзала и через несколько согревающих быстрым движением минут оказалась на привокзальной площади. Пришлось еще немного ускорить шаг, потому что боялась не успеть на стоявший у остановки рейсовый автобус. Оказалось – совсем зря. Еще минут пять он простоял, не трогаясь с места.
Из автобуса – в магазин: купить молока и хлеба. Благо – по дороге: не надо никуда заворачивать – отклоняться от привычного маршрута.
Выйдя из магазина, Наташа снова испытала радостное чувство: при почти полном отсутствии движения в воздухе, плавно паря в свете предпраздничных огней, кружились непонятно откуда взявшиеся редкие снежинки. Это было так красиво – так сказочно красиво, что она неожиданно остановилась. Залюбовалась. И покупка билетов, предполагавшая поездку к сестре на Новый год, и это начинавшееся в свете фонарей снегопредставление, и витрины магазинов, сплошь украшенные огнями и серпантином, ярко освещенная улица, и народ, сновавший взад и вперед по своим делам – все это создавало ощущение неизбежно приближавшегося эпохального события, вплетая в канву ожидания что-то такое хорошее и светлое, что, казалось бы, из ожидания превратится в реальную жизнь. Такую же хорошую и светлую, как и само ожидание: это обязательно случиться, наперекор уже случившемуся…
Состояние сознания, только что восторгавшееся великолепием окружающего мира, почти мгновенно улетучилось, почти враз изменилось, заставив Наташу уйти в себя. Вот радоваться бы. Ведь по-настоящему никогда не любила мужа. И не то чтобы просто догадывалась, знала наверняка – изменяет. Ну вот ушел. Оставил все. Казалось бы, о чем мечтать? Ведь иногда в порыве чувств сама об этом думала – вот если бы. А ушел, и как-то совсем уж грустно стало. «Ну не любила. Ну и что? – во внутреннем взоре мелькнуло лицо мужа, – Жили же все-таки. Сколько таких, как мы. А, может, дело в привычке: может, из-за нее и не по себе?» В не нашедшем ответа сознании на секунду возникла пауза. Словно оно само куда-то исчезло – словно распалось. И сразу же вернулось, или собралось воедино. Возвращение сознания принесло с собой понимание, что привычка-то привычкой, но ее роль не настолько велика, как может показаться, что причина угнетающей чувства грусти и сосущего ощущения пустоты совершенно в другом. «Потому что опять бросили… – тайна, которую тщательно прятала и охраняла бессознательная Наташина суть, наконец, стала явью, – Да, – она вздохнула, – Потому что оставили – за ненадобностью… та ведь беременна», – Наташа снова исподволь тяжело вздохнула и мысленно, как бы очнувшись ото сна, поймала себя на этом. Она знала имя любовницы мужа, но иначе как «та» или «эта» для себя не называла – язык не поворачивался. «А чего я ожидала? Что все будет тишь да гладь, если муж на десять лет старше? Я увела, и у меня увели. Так тебе и надо…»
Но где-то глубоко внутри всей Наташиной сути начинало теплиться запаздывающее удовлетворение, находя благодатную почву, некогда щедро удобренную самыми лучшими на земле чувствами. Она его уже даже осознавала это удовлетворение. Она свободна. Она совершенно свободна! У нее есть все для жизни. А еще у нее есть письмо Полины.
Подсознание, зацепившись за возникшую информацию, стало провоцировать чувства, а те, в свою очередь, воображение. И Наташа, не колеблясь, поддалась обаянию их тандема. «Неужели, Пашенька развелся со своей? Полька пишет – обратного хода вряд ли можно ожидать – проблема разрослась. Теперь эта поездка… неужели судьба снова собирается свести нас? – сердцу в груди стало тесно, и Наташа выдохнула воздух, – А сын его? Вдруг ради сына сойдутся?» Она нутром ощутила, с какой-то нечеловеческой тоской в онемевшем сердце, что не сможет вот так – сходу. Поняла, что ей необходимо время, чтобы окончательно убедиться, что с Пашей не все в прошлом. «Приеду – увижу, – решила, – Мало ли что Полинка говорит».
Воспоминания пробудили «спящую собаку». Неприятное ощущение, зародившееся в подсознании, еще не до конца осознанное, испортило кровь, несущую эту информацию наверх – в мозг. Появилось жжение в ямочке между ключиц. Мысль, уравновесившая инстинктивно пришедшую смутную догадку, поразила. Нет, не прошла обида. «Господи! Все, все, все! Не думать больше!» Наташа словно сорвалась с места в карьер, заторопилась: надо еще приготовить ужин… а зачем? Позвонить Полине? А о чем говорить? Вроде обо всем уже поговорили. Почитать что-нибудь… давно книгу в руки не брала, – она усмехнулась, уловив бессмысленность спонтанно возникшего откровения.
Уже дома, лежа в постели и незаметно каждый раз возвращаясь к моментам прошлого, поняла окончательно – нет, не ушла обида. Притупилась с годами, да, но при мысли о возможной встрече с Пашей стала оживать. В полуночной тишине яснее и четче проступало придвинувшееся вплотную минувшее, которое, казалось, давно осталось там, где ему и положено быть, которое давно отпустило. «Вот как? – подумала удивленно, – меняются обстоятельства, и все возвращается? Ну и как тебе такое будущее? Как оставить пережитое там, если – вот оно – тут как тут?» Картины последних перед расставанием встреч, пробиваясь из памяти и сменяя одна другую, стали оживлять горечь унижения и тоску бессмысленности жизни, навалившихся тогда от невозможности изменить изматывающее психику течение жизни, от ощущения почти детской беспомощности.
Несколько раз перед тем, как уйти, сознание Наташи ныряло в волшебную пограничную зону, перемежая сон и явь, но снова и снова возвращалось. И, наконец, прозрачная, словно сквозь сеточку матрицы, темнота, как показалось, поглотила восприятие реальности.
– Пашенька! – кричала она через огромную, окаймленную белоствольными березами разноцветную поляну, благоухающую яркими полевыми цветами, – Я люблю тебя! Па-а-ша-а!
Неестественно ослепительный солнечный свет, нестерпимо отражавшийся от почти без разводов белых стволов, от молодой, еще с клеевиной, светло-светло-зеленой листвы, от белого, чуть с розовинкой, чуть ниже колена подола сарафана, заставлял щуриться. Сквозь ресницы она видела – Паша не слышит ее. Побежала в его сторону, размахивая руками, и продолжая звать. Но вдруг заметила, что поляна, как ее беговая дорожка, проскальзывает под ногами, и она быстро-быстро перебирая ногами все же остается на месте. Пришло легкое недоумение: так ведь не может быть. Взглянула в сторону любимого и удивилась еще больше. Поляна странным образом удлинялась, растягивалась, и крошечный Пашечка становился все меньше и меньше, пока, наконец, не превратился в точку и не исчез совсем.
За легкостью недоумения пришла тяжесть отчаяния. И Наташа снова закричала, стала звать любимого… и проснулась, уловив при пробуждении свой пораженный страхом и отчаянием утробный голос. Скорее, звериный вой, чем непроизвольный вскрик напуганного человека. От этих доходящих до корней волос обертонов сердце заколотилось еще сильней, заставив окончательно отступить остатки сна.
Еще несколько секунд Наташа пыталась сдерживать слезы. Но все же расплакалась.
Свет уличных фонарей внизу под окнами дома растворял темноту комнаты. Причудливо очерчивая предметы, он создавал иллюзию затянувшегося вечера. Не воспринимаемое до этого сознанием тикание часов неожиданно заполнило пространство комнаты, заменив собой всхлипы и шмыганье носом. Слез уже не было: на душе стало легко и ясно, как в летний день после смывающего отупение жары роскошного ливня. Лишь неприятно пощипывало веки у основания ресниц и отчетливо чувствовалась их припухлость при моргании.
Привычно, автоматически прикрыв глаза, Наташа щелкнула выключателем ночника. Освободилась от одеяла и, опустив ноги на коврик, села. Мысли, только что владевшие сознанием, померкли. Стали появляться другие – о насущных делах, связанных с началом дня, чтобы упрятать прежние видения в бессознательность тайников памяти. И лишь кровь, все еще несущая по венам остатки отравы, вброшенной обновленным страхом потери, не давала чувствам полной свободы от только что пережитого.
2.
За окном царил снегопад, своим существованием выдавая силу и направление ветра. Подхваченные воздушными потоками у самых стен дома снежинки иногда, изменив направление, начинали неожиданно быстро подниматься назад – к небу. Павел машинально, провожая их взглядом, задирал голову вверх и – получалось – уже не видел домов, расположенных в линию напротив. А когда исчезали ориентиры, казалось, что все, до этого находившееся в привычной гармонии, все изменялось до наоборот – мир переворачивался с ног на голову. Снежинки, увлекаемые у стены завихрением снова в небо, уже не белые против света, а темные, словно сажа, искажали действительность, нарушая привычное мироощущение. Щекочущее чувство обостренных при этом нервов появлялось в груди.
Интересное, захватывающее чувство. В сбитой с толку психике возникало не то ощущение, не то понимание запредельной беспредельности пространства, провоцируя собой такое же за пределами разума бесконечное одиночество. В этот момент взбудораженная душа Павла отождествлялась со всем, о чем он спонтанно размышлял, со всем, к чему прикасался сознанием. Она отождествлялась с пульсирующим безбрежным пространством. Отождествлялась со снегом, похожим на сажу. С жизнью – с ее всеми такими мелкими в этой беспредельности переживаниями. Тогда он сам начинал пульсировать, становясь огромным – на всю вселенную – сердцем. Мгновения начинали растягиваться, принося какую-то непонятную радость. То он вырывался мыслью в безграничный простор, и вселенная завораживала своим величием, трансформируя психику. Тогда мысли делали настойчивые попытки описать эмоциональное состояние и тем самым возвращали к реальности, цепляясь за конкретно существующие детали жизни. Но через несколько секунд одержимые высокими чувствами они снова взмывали к вершинам совершенства, снова отождествляясь с ними, и снова лелеяли вечное и незыблемое, как нечто свое собственное, которое, вопреки прагматичности ума, в этот момент казалось не менее реальным.
В конце концов, все это изобилие, переполнявшее психику, стало излишне напрягать. И Павел перевел взгляд на украшенный иллюминацией проспект.
До Нового года оставалось несколько дней, а он, оставшись без семьи, еще до конца не решил, где будет его отмечать.
Благодаря великолепной беспардонности тещи их немногочисленные общие знакомые оказались втянутыми в семейные разборки независимо от их желания. Теща под видом какой-либо мелочи, типа рецептик для выпечки освежить в памяти или сердобольно о здоровье справиться, периодически названивала всем «заинтересованным» фигурантам женского пола, рассказывая то, что считала нужным. И ее остановить тактично, сколько и кто ни пробовал, ни разу успехом не увенчалось. Ну, а идти на открытый бунт никто даже и не помышлял – себе дороже. Вот так и терпели, хотя, наверное, с самого начала понимали, что эта женщина всеми возможными способами старается рассорить собственную дочь с мужем. И, кстати, через создаваемое ею общественное мнение в виде слабохарактерных поддакиваний, что ее убеждали в праведности намерений, в том числе. Вот, казалось, успокоиться бы ей после рождения внука, осознать, так сказать, свою роль в его судьбе. Нет же. Однажды наметив себе такой путь, поставив перед собой задачу, когда зять не выдержавший как-то постоянных нападок попытался поставить ее на место, она методично проводила задуманное в жизнь. Да и задуманное ли. Судя по всему, все у нее, скорее, получалось само по себе, от переизбытка энергии. Просто она так чувствовала, и законы логики, не говоря уже о более высоких материях, для ее уровня восприятия жизни были чужды.
Капля камень точит. Если вначале Лена отмахивалась от матери, от ее неуклюжих домыслов, связанных с мужем, посмеивалась втихаря над ней, то со временем вся эта мамина галиматья стала прорастать в ней. Порой ей начинало видеться подтверждение ее слов. Срабатывал принцип: если в этом случае мама права, значит и в остальном, наверное, тоже. Сколько раз Павел просил ее уйти жить на квартиру. Сколько намекал, что скоро точно не выдержит. Ни в какую. Сколько раз задавал простой вопрос – почему? Но ни разу не получил вразумительного ответа. Только детский лепет. Понятно было одно – никакая квартира, которую мог позволить себе снять муж, не шла в сравнение с папиными апартаментами. В дополнение ко всему Лена оказалась до крайности ревнивой женщиной. Впрочем, как и ее мать, всю жизнь донимавшая мужа претензиями, что тот ей изменяет. Количество собираемого негатива подходило к критической массе. Прибавилось еще и то, что с братом Лены – на почве разногласий с Елизаветой Кондратьевной, у Павла случилось пару серьезных стычек. Двадцатидвухлетний – достаточно инфантильный – молодой человек дважды в состоянии опьянения пытался ударить Павла. И если в первый раз Павел «отнырялся», уходя от кулаков, казалось, ни с того, ни с сего разъярившегося парня, и все, слава богу, успокоилось с приходом тестя, то в другой – драка случилась.
За несколько лет диверсионной работы, очень эмоционально проводившейся, теще, наконец, удалось добиться своего. Она торжествовала. В один из вечеров – пару недель назад, когда Павел пришел за остававшимися вещами, Елизавета Кондратьевна, обращаясь к дочери, почти прокричала с надрывом: «Ну что я тебе говорила?» По всему было видно, что на самом деле она обращается не к ней – к нему. «Ленке, – догадался, – она уже высказала это не раз».
– Я же говорила, – в ее голосе еще сильнее проступил гнев торжества, – не остановит его ребенок. Таких безответственных поискать еще надо, – теща победоносно проследовала в детскую комнату, громко, словно пытаясь напугать кого-то, хлопнув дверью, – Папочка твой, негодяй, пришел. Полюбуйтесь на него.
– Сама ты… – послышался плачущий голос сына, он всхлипнул, видимо, сдерживаясь, – Мой папа хороший.
Павла передернуло.
– Елизавета Кондратьевна… ну зачем вы так?
– А как с тобой прикажешь? – визгливо прокричала теща, – Ты же – подонок. Ребенка сиротой оставляешь.
«Затравили суки ребенка», – он чуть сдержался, чтобы не пойти туда. Но вовремя остановился, зная, что за этим может последовать.
– Алеша, – позвал, – Иди ко мне, сынок.
Мальчик вышел и растерянно посмотрел на него, видимо, не понимая, что ему делать дальше.
Сергей Алексеевич Минский
Что Наташа и Паша – пара, такая же истина, как и та, что Солнце всходит и заходит. Но вернувшись из рядов Советской Армии, Паша вдруг заявляет, что хочет учиться в университете, и для этого ему необходимо уехать в областной город и три курса закончить на стационаре.Наташа чувствует себя униженной. С двумя подругами она уезжает по комсомольской путевке на Север. А через полгода, получив предложение руки и сердца от главного инженера шахты, выходит замуж.Через пятнадцать лет под Новый год – на рубеже смены тысячелетий – волей провидения дороги Павла и Наташи снова пересекаются.Содержит нецензурную брань.
ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ
1.
Билеты на поезд Наташа брала за две недели. Туда и обратно.
В светлом и уютном после студеной декабрьской темноты пространстве зала с междугородними кассами людей совсем немного. К одной так и вовсе две претенциозных в одежде дамы – из-под их дубленок свешивалось что-то наподобие вечерних платьев, девушка и мужик. Со спины – этот – ну, точно, мужик: с огромной головой, неряшливо одетый, его длинная худая шея торчит из когда-то белого, жутко выглядевшего нынче полушубка, без шарфа. «Странный какой-то типчик», – Наташа, поколебавшись, все же стала за ним, отметив с удовлетворением, что сегодня в ее душе день логики. Услышала – даже прислушиваться не пришлось – как мужик что-то, причмокивая, нашептывает сам себе. Он будто отчитывал кого-то беззлобно: типа, ну что ж ты, такой-сякой, не послушал меня… а-а… вот так-то, а послушал бы, так все бы у тебя было лучше и не придумать.
Наташа автоматически, даже не успев ни о чем подумать, отодвинулась, совсем забыв о том, что только секунду назад думала о логике. Появилось чувство гадливости от истекающего от человека тошнотворного запаха? И тут же напомнила о себе совесть. Как же она всегда появлялась не вовремя, всегда вводя сознание в ступор. Наташе становилось не по себе, когда оно – сознание – успевало пропустить инициированную пронырливым подсознанием негативную оценку. Почему не по себе? Да потому, что душа повторяла неприятный, пройденный неоднократно урок через круговорот смятения. А еще потому, что на помощь уже спешила для восстановления баланса «скорая помощь»: оправдательная философия – соломинка – спасительная реакция организма. «Следить за собой нужно… – подумала Наташа, – почему я должна с уважением относиться к нему, если он с неуважением относится ко мне?» Она, поколебавшись, словно соизмеряясь с не отступавшей от своего совестью, сделала еще полшага назад. «До чего же… отвратительно пахнет… – в ней что-то перемкнуло, – да, воняет, господи… кого я тут из себя строю?» Появилась даже тошнота. Подступила к горлу от кислого запаха давно нестиранной одежды, от дыма дешевого табака, въевшегося в овчину явно не фабричной выделки. Наташа вдруг, словно нейтрализуя промах, усмехнулась: «Поэтому и людей к этой кассе столько: видимо, другие не стали особо заморачиваться совестливостью».
Мужик резко, будто почувствовал, что о нем думают, обернулся, почти неслышно шевеля толстыми губами, странной деталью выступавшими на худом с мелкими чертами лице. Наташа машинально отпрянула, отступила еще на шаг назад. Успела рассмотреть физиономию соседа. Под его сизоватым носом и немного на округлом женоподобном подбородке пучками торчала редкая, кое-где с проседью рыжеватая растительность. Но эта растительность почему-то обошла своим вниманием чуть обвисавшие пухлые щеки. Они розовели почти как у подростка, несмотря на возраст их обладателя. "А этому, – подумала – ну, никак не меньше полтинника". Бессмысленно, продолжая шевелить толстыми губищами, мужик влез в Наташу своим пустым и, словно уже у дохлой рыбы, мутным взглядом.
И все в Наташе под этим молчаливым натиском, шедшим почему-то снизу – из-под солнечного сплетения, сжалось, все ее внутренности подступили под грудь, перехватив дыхание: она это ощутила физиологически, даже спазмы стали подступать к горлу. «Ненормальный какой-то». Ей, до этого больше руководившейся вездесущим разумом, чем чувствами, вдруг стало по-настоящему жутковато. Появилось желание перейти к другой кассе…
Но желание сразу же пропало, стоило претенциозным дамам впереди отойти от окошка: подумала – осталось немного, можно и потерпеть. Женщины, разглядывая билеты, подались влево, пропуская девушку. Оставалось всего двое: она и мужик. «Потерпишь, дорогая, нечего аристократку из себя корчить».
Девушка, серенькой мышкой прошмыгнувшая к кассе перед «кислым» мужиком, задержалась буквально на три минуты. Ну, от силы на четыре. Но «кислый»? Тот, пытаясь добиться своего, проторчал у окна минут десять, если не больше. Достал своей бестолковостью и невразумительной речью всех: и кассира, и Наташу, и тех, кто уже выстроился за ней. За спиной она слышала нелицеприятный ропот одних и соответствующие ситуации реплики других.
В конце концов, так и не добившись своего, несчастный мужик, чуть прихрамывая и шевеля как и прежде губами, отошел недовольный в сторону. Наташа вздохнула. С облегчением. Подошла к кассе и сразу же о нем забыла.
– Слушаю вас? – девушка улыбнулась Наташе, словно бы с благодарностью. Как будто именно ей была обязана тем, что ушел этот доставучий человек – такой неприятный, с такой отталкивающей внешностью и все же вызвавший к себе, казалось, неуместную жалость. И юное создание в железнодорожном жакете, обрамляющем ее на пике раскрытия женскую прелесть, вдруг увлажнило Наташину душу ностальгией. К ней – к душе как бы прикоснулось, просочившись сквозь наслоения лет, то время, когда Наташа и сама работала на «железке» – проводницей на линии «Москва–Воркута». С молоточками в петлицах. Словно бы вчера. Вот так же – в красивой форменной одежде, подчеркивавшей и ее, в общем, завидную фигуру, и, в частности, узкую, осиную талию, хорошую девственную грудь, и не менее хорошую… «Ну, с этим со всем у меня и сейчас пока все в порядке…»
– Мне на двадцать девятое, до Минска, один купейный, – она подождала, пока тонкие пальчики, с длинными накрашенными ноготками царапали клавиатуру, – И обратный – из Минска, на третье января… тоже купейный.
– Так… – девушка назвала стоимость билетов, номера поездов до Москвы и от Москвы, выдала дежурную, ничего уже не значившую улыбку с замусоленной фразой «счастливого пути».
– Спасибо, – Наташа шагнула чуть в сторону, по старой привычке пробежала глазами по столбцам цифр на листках и отошла, снова вздохнув облегченно: дело сделано. При этом в сознании мелькнул образ импозантного мужика. Но лишь на мгновение. Девушка с блестящими молоточками в обрамлении петлиц и покупка билетов, предполагавших поездку, навеяла ностальгию, заставила всколыхнуться давно забытое, уснувшее надолго в успокоенной благополучием душе чувство дороги. Захотелось пойти на перрон. Захотелось вдохнуть запах юности: втянуть носом этот разбавленный угольным дымком и креазотом воздух. Она поправила шаль, застегнула на все пуговицы дубленку и вышла из теплого кассового зала на освещенное фонарями внутреннее с утоптанным снегом морозное пространство вокзала и направилась к высокому перрону – туда, где стоял ее, но давно уже не ее «московский» скорый.
Вдруг показалось, что здесь уже всецело царит яркое предпраздничное оживление: словно до столь всеми ожидаемого Нового года в начинающемся новом тысячелетии еще не две недели, а уже часа два – не больше. Искрящийся отраженным светом ярких фонарей и гирлянд свежий снег, клочками пуха разбросанный по притоптанному промерзшему перрону, испуганно шарахался в стороны от торопливых ног. Беспрерывная полярная ночь и начищенные крепким морозным воздухом звезды на черной бесконечности неба рождали ощущение присутствия вечности. И от этого присутствия в сиюминутности житейской, такой глупой, такой с вездесущим налетом мещанства, такой, казалось бы, в данный момент неприемлемой суеты в душе исподволь возникал конфликт, внося в окружающую картину мира еще большую жизненность. Легкий запах креазота и угольного дыма, вертикально поднимавшегося над крышами вагонов, будили в Наташиной груди уснувшие до поры, но не истаявшие во времени чувства. А морозный, покалывающий ноздри воздух, словно лопающиеся пузырьки восхитительного от переполнявшего ощущения праздника шампанского, добавлял в них терпкости и остроты одновременно. Это бередило разбухшую чувствами душу, соединяя прекрасное прошлое с не менее прекрасным настоящим, отчего все, что в ней – в этой душе происходило, и начинало казаться долгим, как и сама вечность, настоящим.
«Господи, как же давно это все было! И как недавно», – Наташа бесцельно пошла по перрону. Окна с фирменными занавесками и провожающие, смешно жестикулировавшие около них. Девушки и парни в темно-синих, кажущихся черными шинелях у проемов вагонных дверей, занятые проверкой билетов и просто весело общавшиеся со своими коллегами из соседних вагонов. Группы и одинокие пассажиры с чемоданами и сумками, спешившие скорее занять свои теплые места. Это было так до боли знакомо, так томительно, с такой грустью отзывалось в сердце, и в то же время наполняло его радостью, что у Наташи, не имевшей возможности нейтрализовать иначе противоречивые чувства, увлажнились глаза. Наконец, после горделивого напоминания диктора, наступил апофеоз всего этого многогранного в своей сложности действа: поезд громыхнул многотонным металлом, стронулся с места и, набирая ход, стал все чаще повторять на стыках свое привычное «тук-дук, тук-дук».
«Все! Домой! Хватит с меня переживаний!» – Наташа вдруг ощутила дискомфорт. И от того, что начали проклевываться в памяти не те воспоминания, которые бы только радовали: как при этом обойтись без Пашиного в них присутствия, как без него вообще что-то может быть? И оттого, что пальцы ног начинали зябнуть даже в пимах, даже несмотря на шерстяные, почти новые, купленные этой осенью у домовитой соседки носочки: та говорила, что в нити вплетала собачью шерсть, обещала – будет тепло. А волоски мохеровой шали с осевшим на них от дыхания инеем, норовили неприятно коснуться щек, если нужно было повернуть голову. Тоже неприятно. Тепло кассового зала, недолго ощущавшееся под дубленкой, ушло, как и только что окрылявшее желание оказаться на стылом морозном перроне. Наташа заторопилась, прикрывая варежкой рот и нос от обжигающего воздуха. Обошла здание вокзала и через несколько согревающих быстрым движением минут оказалась на привокзальной площади. Пришлось еще немного ускорить шаг, потому что боялась не успеть на стоявший у остановки рейсовый автобус. Оказалось – совсем зря. Еще минут пять он простоял, не трогаясь с места.
Из автобуса – в магазин: купить молока и хлеба. Благо – по дороге: не надо никуда заворачивать – отклоняться от привычного маршрута.
Выйдя из магазина, Наташа снова испытала радостное чувство: при почти полном отсутствии движения в воздухе, плавно паря в свете предпраздничных огней, кружились непонятно откуда взявшиеся редкие снежинки. Это было так красиво – так сказочно красиво, что она неожиданно остановилась. Залюбовалась. И покупка билетов, предполагавшая поездку к сестре на Новый год, и это начинавшееся в свете фонарей снегопредставление, и витрины магазинов, сплошь украшенные огнями и серпантином, ярко освещенная улица, и народ, сновавший взад и вперед по своим делам – все это создавало ощущение неизбежно приближавшегося эпохального события, вплетая в канву ожидания что-то такое хорошее и светлое, что, казалось бы, из ожидания превратится в реальную жизнь. Такую же хорошую и светлую, как и само ожидание: это обязательно случиться, наперекор уже случившемуся…
Состояние сознания, только что восторгавшееся великолепием окружающего мира, почти мгновенно улетучилось, почти враз изменилось, заставив Наташу уйти в себя. Вот радоваться бы. Ведь по-настоящему никогда не любила мужа. И не то чтобы просто догадывалась, знала наверняка – изменяет. Ну вот ушел. Оставил все. Казалось бы, о чем мечтать? Ведь иногда в порыве чувств сама об этом думала – вот если бы. А ушел, и как-то совсем уж грустно стало. «Ну не любила. Ну и что? – во внутреннем взоре мелькнуло лицо мужа, – Жили же все-таки. Сколько таких, как мы. А, может, дело в привычке: может, из-за нее и не по себе?» В не нашедшем ответа сознании на секунду возникла пауза. Словно оно само куда-то исчезло – словно распалось. И сразу же вернулось, или собралось воедино. Возвращение сознания принесло с собой понимание, что привычка-то привычкой, но ее роль не настолько велика, как может показаться, что причина угнетающей чувства грусти и сосущего ощущения пустоты совершенно в другом. «Потому что опять бросили… – тайна, которую тщательно прятала и охраняла бессознательная Наташина суть, наконец, стала явью, – Да, – она вздохнула, – Потому что оставили – за ненадобностью… та ведь беременна», – Наташа снова исподволь тяжело вздохнула и мысленно, как бы очнувшись ото сна, поймала себя на этом. Она знала имя любовницы мужа, но иначе как «та» или «эта» для себя не называла – язык не поворачивался. «А чего я ожидала? Что все будет тишь да гладь, если муж на десять лет старше? Я увела, и у меня увели. Так тебе и надо…»
Но где-то глубоко внутри всей Наташиной сути начинало теплиться запаздывающее удовлетворение, находя благодатную почву, некогда щедро удобренную самыми лучшими на земле чувствами. Она его уже даже осознавала это удовлетворение. Она свободна. Она совершенно свободна! У нее есть все для жизни. А еще у нее есть письмо Полины.
Подсознание, зацепившись за возникшую информацию, стало провоцировать чувства, а те, в свою очередь, воображение. И Наташа, не колеблясь, поддалась обаянию их тандема. «Неужели, Пашенька развелся со своей? Полька пишет – обратного хода вряд ли можно ожидать – проблема разрослась. Теперь эта поездка… неужели судьба снова собирается свести нас? – сердцу в груди стало тесно, и Наташа выдохнула воздух, – А сын его? Вдруг ради сына сойдутся?» Она нутром ощутила, с какой-то нечеловеческой тоской в онемевшем сердце, что не сможет вот так – сходу. Поняла, что ей необходимо время, чтобы окончательно убедиться, что с Пашей не все в прошлом. «Приеду – увижу, – решила, – Мало ли что Полинка говорит».
Воспоминания пробудили «спящую собаку». Неприятное ощущение, зародившееся в подсознании, еще не до конца осознанное, испортило кровь, несущую эту информацию наверх – в мозг. Появилось жжение в ямочке между ключиц. Мысль, уравновесившая инстинктивно пришедшую смутную догадку, поразила. Нет, не прошла обида. «Господи! Все, все, все! Не думать больше!» Наташа словно сорвалась с места в карьер, заторопилась: надо еще приготовить ужин… а зачем? Позвонить Полине? А о чем говорить? Вроде обо всем уже поговорили. Почитать что-нибудь… давно книгу в руки не брала, – она усмехнулась, уловив бессмысленность спонтанно возникшего откровения.
Уже дома, лежа в постели и незаметно каждый раз возвращаясь к моментам прошлого, поняла окончательно – нет, не ушла обида. Притупилась с годами, да, но при мысли о возможной встрече с Пашей стала оживать. В полуночной тишине яснее и четче проступало придвинувшееся вплотную минувшее, которое, казалось, давно осталось там, где ему и положено быть, которое давно отпустило. «Вот как? – подумала удивленно, – меняются обстоятельства, и все возвращается? Ну и как тебе такое будущее? Как оставить пережитое там, если – вот оно – тут как тут?» Картины последних перед расставанием встреч, пробиваясь из памяти и сменяя одна другую, стали оживлять горечь унижения и тоску бессмысленности жизни, навалившихся тогда от невозможности изменить изматывающее психику течение жизни, от ощущения почти детской беспомощности.
Несколько раз перед тем, как уйти, сознание Наташи ныряло в волшебную пограничную зону, перемежая сон и явь, но снова и снова возвращалось. И, наконец, прозрачная, словно сквозь сеточку матрицы, темнота, как показалось, поглотила восприятие реальности.
– Пашенька! – кричала она через огромную, окаймленную белоствольными березами разноцветную поляну, благоухающую яркими полевыми цветами, – Я люблю тебя! Па-а-ша-а!
Неестественно ослепительный солнечный свет, нестерпимо отражавшийся от почти без разводов белых стволов, от молодой, еще с клеевиной, светло-светло-зеленой листвы, от белого, чуть с розовинкой, чуть ниже колена подола сарафана, заставлял щуриться. Сквозь ресницы она видела – Паша не слышит ее. Побежала в его сторону, размахивая руками, и продолжая звать. Но вдруг заметила, что поляна, как ее беговая дорожка, проскальзывает под ногами, и она быстро-быстро перебирая ногами все же остается на месте. Пришло легкое недоумение: так ведь не может быть. Взглянула в сторону любимого и удивилась еще больше. Поляна странным образом удлинялась, растягивалась, и крошечный Пашечка становился все меньше и меньше, пока, наконец, не превратился в точку и не исчез совсем.
За легкостью недоумения пришла тяжесть отчаяния. И Наташа снова закричала, стала звать любимого… и проснулась, уловив при пробуждении свой пораженный страхом и отчаянием утробный голос. Скорее, звериный вой, чем непроизвольный вскрик напуганного человека. От этих доходящих до корней волос обертонов сердце заколотилось еще сильней, заставив окончательно отступить остатки сна.
Еще несколько секунд Наташа пыталась сдерживать слезы. Но все же расплакалась.
Свет уличных фонарей внизу под окнами дома растворял темноту комнаты. Причудливо очерчивая предметы, он создавал иллюзию затянувшегося вечера. Не воспринимаемое до этого сознанием тикание часов неожиданно заполнило пространство комнаты, заменив собой всхлипы и шмыганье носом. Слез уже не было: на душе стало легко и ясно, как в летний день после смывающего отупение жары роскошного ливня. Лишь неприятно пощипывало веки у основания ресниц и отчетливо чувствовалась их припухлость при моргании.
Привычно, автоматически прикрыв глаза, Наташа щелкнула выключателем ночника. Освободилась от одеяла и, опустив ноги на коврик, села. Мысли, только что владевшие сознанием, померкли. Стали появляться другие – о насущных делах, связанных с началом дня, чтобы упрятать прежние видения в бессознательность тайников памяти. И лишь кровь, все еще несущая по венам остатки отравы, вброшенной обновленным страхом потери, не давала чувствам полной свободы от только что пережитого.
2.
За окном царил снегопад, своим существованием выдавая силу и направление ветра. Подхваченные воздушными потоками у самых стен дома снежинки иногда, изменив направление, начинали неожиданно быстро подниматься назад – к небу. Павел машинально, провожая их взглядом, задирал голову вверх и – получалось – уже не видел домов, расположенных в линию напротив. А когда исчезали ориентиры, казалось, что все, до этого находившееся в привычной гармонии, все изменялось до наоборот – мир переворачивался с ног на голову. Снежинки, увлекаемые у стены завихрением снова в небо, уже не белые против света, а темные, словно сажа, искажали действительность, нарушая привычное мироощущение. Щекочущее чувство обостренных при этом нервов появлялось в груди.
Интересное, захватывающее чувство. В сбитой с толку психике возникало не то ощущение, не то понимание запредельной беспредельности пространства, провоцируя собой такое же за пределами разума бесконечное одиночество. В этот момент взбудораженная душа Павла отождествлялась со всем, о чем он спонтанно размышлял, со всем, к чему прикасался сознанием. Она отождествлялась с пульсирующим безбрежным пространством. Отождествлялась со снегом, похожим на сажу. С жизнью – с ее всеми такими мелкими в этой беспредельности переживаниями. Тогда он сам начинал пульсировать, становясь огромным – на всю вселенную – сердцем. Мгновения начинали растягиваться, принося какую-то непонятную радость. То он вырывался мыслью в безграничный простор, и вселенная завораживала своим величием, трансформируя психику. Тогда мысли делали настойчивые попытки описать эмоциональное состояние и тем самым возвращали к реальности, цепляясь за конкретно существующие детали жизни. Но через несколько секунд одержимые высокими чувствами они снова взмывали к вершинам совершенства, снова отождествляясь с ними, и снова лелеяли вечное и незыблемое, как нечто свое собственное, которое, вопреки прагматичности ума, в этот момент казалось не менее реальным.
В конце концов, все это изобилие, переполнявшее психику, стало излишне напрягать. И Павел перевел взгляд на украшенный иллюминацией проспект.
До Нового года оставалось несколько дней, а он, оставшись без семьи, еще до конца не решил, где будет его отмечать.
Благодаря великолепной беспардонности тещи их немногочисленные общие знакомые оказались втянутыми в семейные разборки независимо от их желания. Теща под видом какой-либо мелочи, типа рецептик для выпечки освежить в памяти или сердобольно о здоровье справиться, периодически названивала всем «заинтересованным» фигурантам женского пола, рассказывая то, что считала нужным. И ее остановить тактично, сколько и кто ни пробовал, ни разу успехом не увенчалось. Ну, а идти на открытый бунт никто даже и не помышлял – себе дороже. Вот так и терпели, хотя, наверное, с самого начала понимали, что эта женщина всеми возможными способами старается рассорить собственную дочь с мужем. И, кстати, через создаваемое ею общественное мнение в виде слабохарактерных поддакиваний, что ее убеждали в праведности намерений, в том числе. Вот, казалось, успокоиться бы ей после рождения внука, осознать, так сказать, свою роль в его судьбе. Нет же. Однажды наметив себе такой путь, поставив перед собой задачу, когда зять не выдержавший как-то постоянных нападок попытался поставить ее на место, она методично проводила задуманное в жизнь. Да и задуманное ли. Судя по всему, все у нее, скорее, получалось само по себе, от переизбытка энергии. Просто она так чувствовала, и законы логики, не говоря уже о более высоких материях, для ее уровня восприятия жизни были чужды.
Капля камень точит. Если вначале Лена отмахивалась от матери, от ее неуклюжих домыслов, связанных с мужем, посмеивалась втихаря над ней, то со временем вся эта мамина галиматья стала прорастать в ней. Порой ей начинало видеться подтверждение ее слов. Срабатывал принцип: если в этом случае мама права, значит и в остальном, наверное, тоже. Сколько раз Павел просил ее уйти жить на квартиру. Сколько намекал, что скоро точно не выдержит. Ни в какую. Сколько раз задавал простой вопрос – почему? Но ни разу не получил вразумительного ответа. Только детский лепет. Понятно было одно – никакая квартира, которую мог позволить себе снять муж, не шла в сравнение с папиными апартаментами. В дополнение ко всему Лена оказалась до крайности ревнивой женщиной. Впрочем, как и ее мать, всю жизнь донимавшая мужа претензиями, что тот ей изменяет. Количество собираемого негатива подходило к критической массе. Прибавилось еще и то, что с братом Лены – на почве разногласий с Елизаветой Кондратьевной, у Павла случилось пару серьезных стычек. Двадцатидвухлетний – достаточно инфантильный – молодой человек дважды в состоянии опьянения пытался ударить Павла. И если в первый раз Павел «отнырялся», уходя от кулаков, казалось, ни с того, ни с сего разъярившегося парня, и все, слава богу, успокоилось с приходом тестя, то в другой – драка случилась.
За несколько лет диверсионной работы, очень эмоционально проводившейся, теще, наконец, удалось добиться своего. Она торжествовала. В один из вечеров – пару недель назад, когда Павел пришел за остававшимися вещами, Елизавета Кондратьевна, обращаясь к дочери, почти прокричала с надрывом: «Ну что я тебе говорила?» По всему было видно, что на самом деле она обращается не к ней – к нему. «Ленке, – догадался, – она уже высказала это не раз».
– Я же говорила, – в ее голосе еще сильнее проступил гнев торжества, – не остановит его ребенок. Таких безответственных поискать еще надо, – теща победоносно проследовала в детскую комнату, громко, словно пытаясь напугать кого-то, хлопнув дверью, – Папочка твой, негодяй, пришел. Полюбуйтесь на него.
– Сама ты… – послышался плачущий голос сына, он всхлипнул, видимо, сдерживаясь, – Мой папа хороший.
Павла передернуло.
– Елизавета Кондратьевна… ну зачем вы так?
– А как с тобой прикажешь? – визгливо прокричала теща, – Ты же – подонок. Ребенка сиротой оставляешь.
«Затравили суки ребенка», – он чуть сдержался, чтобы не пойти туда. Но вовремя остановился, зная, что за этим может последовать.
– Алеша, – позвал, – Иди ко мне, сынок.
Мальчик вышел и растерянно посмотрел на него, видимо, не понимая, что ему делать дальше.