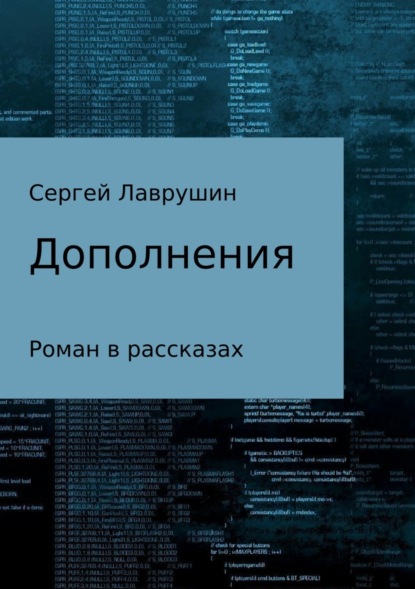По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дополнения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но зачем, я не пойму? Посмотри, скольких ты оживил! Они все благодарны тебе, они все твои!
– Но ни одна не так хороша.
– Так почему ты стоишь? Оживи её.
– Оживить? А потом? Ведь я буду любить только её всю жизнь. У меня больше ничего не будет.
– Ты оставишь её… так?
– И вернуться к толпе постылых баб? Я не знаю. Как она хороша?
– Так что же ты решил, Аввос?
– Да. Наверное, я воскрешу её.
Трясущимися пальцами он прикоснулся к её вискам, одёрнул руки, снова прикоснулся. Начал тереть их, но задумался и нежно погладил волосы. Потом опомнился и продолжил выполнять нужные движения. Он старался очень долго. Значительно дольше обычного. Даже Илиодор устал ждать. Ничего не выходило. Дева оставалась мёртвой. Когда Аввос отчаялся окончательно, он сел под плитой и закрыл лицо руками. Он ничего не смог сделать, потому что слишком много думал последнее время, многое понял – а больше всё-таки не понял, как оно обычно и бывает. И хоть вдохновение – это сильное чувство, сейчас им владело другое. То, о котором он не вспоминал до тех пор, пока не представил своего двойника среди цветочков. Именно сейчас в нём кипел, горел и бушевал его настоящий дар – как он сам говорил – дар любить и оплакивать…
Вот и всё, что произошло близ одной из Антиохий. Можно было бы сказать ещё кое-что о том, как переживал Илиодор; как Аввос похоронил свою любимую среди гелиотропов (хотя я точно знаю, что он там её не хоронил), их жизнь могла бы быть долгой, скучной и той самой единственной; как девушки нашли Закхея, как обычно рыдающего, обвинили во всех бедах и задушили… Но всё главное уже сказано, и мне скучно.
И всё же ещё несколько слов должны быть добавлены:
Аввос вскоре пропал. Похожий на него монах появился в христианской общине. Правда, и в рощи Дафны тоже наведывалось несколько странных отщепенцев. Илиодор вывел девушек сквозь закоулки пещеры. Все они стали проститутками. Они никогда не заразили никого дурными болезнями, но никто не испытывал настоящего удовольствия ни с одной из них. А что же стало с самим Илиодором? Может быть, он сыт и обогрет, может быть, он умер никому ненужный. Это уже другая, неинтересная история, которых много было и, без сомнения, будет, пока жив хоть один человек, потому что любая жизнь, выбирай не выбирай, может оказаться сущей ерундой.
А теперь, прощайте.
2
Вот есть всё-таки параллельная вселенная, где ты сделал всё, чего не сделал тут, и наоборот. Увидишь девушку, которую не встретил, кто такая, первый раз вижу, а как будто нет. Почудится песня, которую не сочинил, ну вы все знаете, там так… а, нет. Вспомнишь яму в которую не упал, а ведь мог бы. Лежал бы там, смотрел бы на звёздочки и был бы такой же реальный, как и теперешний. А бывает дежа вю: вселенные соприкоснулись, дела идут везде одинаково, ничего не попишешь. Последнее время я плохо сплю и думаю всё о чём-то нехорошем. Так трудно сделать выбор, так страшно. Взял в слепую и пошёл, как билет на экзамене. И делай вид, что там все билеты одинаковые, чтоб не маяться, не корить себя за неправильный выбор, не мечтать разрушительно: а как иначе…?
Глава 5 «Геракл»
А ещё у меня сложился такой рассказ. Я долго думал, как его озаглавить, в итоге осенило: «Геракл». Из слабой и проходной песни, как этот рассказ, получается отличный номер, если правильно разместить его и дать название, которое переосмысливает весь текст. Слушаем.
1
К концу шестнадцатого века по дорогам Европы было развеяно столько человеческого праха, что порой путник не знал, чего больше на его штанах: простой грязи или чьего-то измученного тела. Мало кто догадывался, но инквизиция лишь начинала отживать свои лучшие годы, хотя и… Но что «хотя»? Что мы вообще знаем? А, может, что нам надо знать? Принесла бы облегчение мысль о том, что спустя какую-то сотню лет наши сегодняшние мучители будут осуждены в глазах людей?
Но я начал с шестнадцатого века, с его дорог. Попробую этим же и продолжить. Попробую, как бы это ни было тяжело, этой маленькой историей проиллюстрировать некоторые соображения; сегодня мысли мои движутся лениво и медленно, поэтому мне не сформулировать их точно. Например: нам проще, нам нравится, в нашей природе понимать неправильно всё происходящее вокруг; понимать не так и не до конца. Что мы легко поддаёмся ложным трактовкам… Что верим только громким словам.
Это не совсем плохо. Всё оттого, что нам кажется, будто и человек и мир вокруг него – это очень сложно. Поэтому начинаем переиначивать, передумывать и перепонимать всю божественную простоту свежего взгляда. Простые, тихие слова нам кажутся слишком простыми, а надуманные – учёными, хоть никто не любит учителей. И ведь что ни говорите, неоспоримая правда в том, что у умного человека не может быть серьёзного лица. Умный человек всё делает просто и быстро, тогда как тугодумы пытаются напрячь всё своё могущество, чтобы выполнить банальные регламенты.
По дороге вдоль деревьев идут двое. Иногда они перебрасываются несколькими словами и поглядывают на придорожные камни, которые суть самый точный прибор для измерения. Они отсчитывают шаги и время или шаги времени. Или время – это шаги. Не важно. Человек, который думает так, философ. А ещё он алхимик, лекарь, писатель, астроном, и зовут его Матеус Рылюс. Рядом с ним его ученик; никто не любит учеников.
Скажу сложнее. Почти все «простые» люди не любят учителей; почти все учителя не любят учеников; а ученики не любят простых людей. Из этого софизма выходит то, что учителя как раз-таки испытывают симпатию к обычному люду и поучают его. Они доказывают, рассказывают и распинают себя перед теми, кто не хочет, чтобы их учили. Поэтому ученик ходит за учителем по дорогам, а тот, отмахиваясь, ищет, кого бы ещё воспитать, кому с восторгом объяснить многие удивительные тайны, что почти уже открылись ему самому.
Сложно? Сложность – это такая плата за точность. Я и сам следую за мэтром Матеусом как покорный ученик, а он в своих думах не замечает меня. Я завидую его настоящему ученику Стефану Баличу. Я ревную к нему и точно следую за ними обоими.
– Я, кажется, начал сочинять книгу, – говорит, точнее, бормочет Матеус. – Это будет книга размышлений о трагедии. Я возьму за основу несколько античных трагедий и попытаюсь вместе с читателем поставить её. Только сценой будет моё и его воображение. Нет, моё воображение будет режиссёром… Все декорации наши будут: стена или поляна, стол, несколько стульев, возможно, понадобится ширма и какие-то мелкие предметы. Всё, с чем мы сталкиваемся каждый день. Это всё для того, чтобы нам было как можно легче всё представлять, ведь представление наше не на сцене театра, а в нашей голове. При желании можно вообразить даже то, что сцена себе и не позволит, но я склонен думать, что мало вещей, даст возможность сосредоточиться на многообразии чувств.
– Учитель, а кто же будет читать эту книгу? – спрашивает ученик. – Может, лучше обобщим наш опыт в медицине. Неспокойно нам становится, а последний приём так совсем чуть не перепугал меня.
Но Матеуса было уже не остановить. Он мог говорить часами, и, к сожалению редко что-то записывал. Однажды он сказал Стефану так: «Иногда придёт в голову такая чудесная мысль в замечательном предложении – настоящая поэзия! Продиктуешь его про себя, ты знаешь, да? Да, неплохо! Вот перо; ага, и бумага тут. Но нет никакого сигнала из мозга записать. Ведь писать – это столько времени займёт, а ведь в это время можно… совершенно ничего не делать. Такая роскошь!» Вот и сейчас мэтр «надиктовывал» себе под нос что-то новое.
– Это будет диалог с Мельпоменой. В одной руке она держит маску с гримасой боли, душевной – какой же ещё, в другой меч как символ поражения человека, борющегося с роком. Ещё надо выбрать героя. Яркий герой, вся жизнь которого одна большая трагедия, – это Эдип. Несчастный, судьба поставила на нём крест ещё до его рождения. Если бы проклятый оракул не предсказал, что мальчик убьёт отца и возляжет с матерью, если бы отец не поверил, если бы слуга его не спас, если бы…
Вокруг был солнечный и свежий день и мир. Мэтр вдыхал свободу и выдыхал творчество. Какое это было счастье следить за сигналом из вечности, мыслить и творить. Как волнительно испытывать надежду, что твои мысли и творчество подарят такое же счастье другим.
Между тем Матеус продолжает.
– Но вот ещё один неудачник, самый удачливый из всех, полубог, наказанный богами тоже только лишь за то, что родился. Это Геракл. Да, Геракл мне нравится. Надо сразу же наметить два аспекта… я уже вижу… Первый: несмотря на своеобразную обыденность для самого Геракла, образно говоря, «момента подвига» и уверенность в победе, он всё-таки – герой. Единица, способная искоренить зло, защитить невинных, наказать негодяев. Его первое появление должно вселить трепет в зрителя-читателя. На фоне беспросветного ужаса, безнадёги, его семья, люди по-своему спокойные от приближающейся смерти, уже видящие мир всё ещё своими глазами, но уже условно из царства Аида, встречают мужа. Геракла. Он один, и он – всё! Он не боится царя Лика, он победит его армию. Он это совершает, и тем страшнее то, что произошло далее! Стефан, ты помнишь, что произошло дальше?
– Ну да, Гера послала на него безумие, он принял своих детей за солдат и убил их.
– Нет! Он их сначала спас от казни, от царя Лика, а потом убил. Ты понимаешь, какая это трагедия?! Чтобы подчеркнуть глобальность, скорее всего даже космичность происходящего, необходимо, напротив, показать его совершенную обычность. Лик предстанет человеком обычным. Ведь если перед нами появится тип со злобным взглядом, пальцами-крючьями, с растрёпанными волосами и при этом в каком-нибудь страшном доспехе, нам будет понятно – это злодей, и все его поступки уже не вызовут какой-то брезгливой, совершенно человеческой неприязни. Что же ещё ждать от этакого мерзавца? Неинтересно. А Геракл впервые появится не под громкие литавры во всём своём величии, чтобы у нас у всех потекли слёзы от счастья, что он сейчас всех спасёт. Он, напротив, должен войти тихо, может, даже во время какого-либо постороннего разговора. Так вот просто, не понимая, что происходит, прислушиваясь. Тем сильнее должна ударить нас неожиданная догадка: «Это он? Он точно всех спасёт? Ну же, что ты медлишь!» Стефан, ты понимаешь? Тебе нравится?
Я же, в отличие от утомлённого дорогой Стефана, прислушиваюсь, кое-что записываю, но при этом не упускаю возможности вдыхать, как и Матеус, полной грудью этот день, а помимо этого ещё и глядеть по сторонам. Вот мне приходит в голову обернуться; прищуриться; прислушаться. Кто-то показался в пыли и топоте. Это скачут всадники.
– Спрячься, – внезапно говорит, замедлив шаг, Матеус ученику. Он плохо и редко заботится о нём, позволяя, скорее, самому ученику следить за своим наставником. Однако, Матеус не желает Стефану ничего плохого.
– Куда же я спрячусь, мэтр Матеус? – недоумевает молодой человек от такого неожиданного предложения.
– О Боже, Стефан! Вон видишь кусты? Они достаточно густые. Ныряй прямо в них, прячься за ними. Залеги так, чтобы не помялись стебельки.
– Не поминайте Бога всуе, учитель, это нехорошо. А книги? – в руках у Стефана была связка необходимых томов и ещё кое-какой скарб.
– Положи их здесь.
– Прямо на землю?!
– Да, поторопись. Скоро тебя увидят, и будет поздно!
– Почему, учитель, что случилось?
– Стефан, спрячься!
Молодой человек положил связку на землю и влез в куст. Матеус убедился, что ветки расправлены, и Стефана не видно и, не взяв книги, медленно зашагал. В коленях появилась дрожь, но ничего уже нельзя было поменять. «Эгей! А чувство погони, оказывается, хорошо мне знакомо!» – подумалось лекарю, – «Меня прогоняли и преследовали не один раз. Всегда грозили, но всегда угрозы проходили стороной. Ах, как страшно, но всё пройдёт стороной, как было всегда».
А Стефан Балич сидел в кустах и видел удаляющегося учителя. Вот сейчас тот совсем скроется за поворотом у того дерева. Что же получается? Зачем же сидеть в этих-то кустах. Но мимо проскакали всадники. Их приближения совсем не было слышно. Ещё секунду назад Стефан не мог вообразить их мгновенного, как мистическая буря, появления, и вот они пронеслись и сбили с толку. Молодой человек как мог аккуратно вытянул шею среди витиеватости своего укрытия. Всадники появились снова. Гнедые лошади шли медленнее. Дьявольские разгорячённые морды фыркали, а мэтр Матеус тащился рядом, связанный верёвками. Один из преследователей небрежно, словно что-то постыдное, подхватил связку книг.
2
Матеус Рюлюс даже не спросил, за что его арестовали. Сначала потому что испугался и забыл, а потом, наверное, понял.
Камера была такой, какой она могла быть в средние века, и хоть точность требует описать в какой обстановке оказался Матеус Рылюс, я это делать не буду. Он сидел на полу, ему было немного страшно, много больше неуютно. Трудно сказать, о чём он думал, когда к нему завели сокамерника.
В судебных расследованиях часто практиковалась следующая метода. В камеру с подсудимым сажали человека, якобы тоже обвинённого в чём-то подобном, и он под видом душевного разговора или обиды на всех и вся выведывал у сокамерника его мысли. Но как только подсадной начал завязывать ненавязчивую беседу, Матеус вскинул брови и воскликнул: «Как хорошо, что мы сейчас одни, и у нас есть время, чтобы поговорить!» И как только человек не пытался навести на чернокнижеские ритуалы, вопросы церкви и какое-то таинственное убийство сына бургграфа, мэтр постоянно возвращался на интересное ему.
– Ну что ты всё о церкви, да обо всякой ерунде?! На свете куда больше всего интересного, чем кажется на первый взгляд, – отнекивался Рылюс. – Я вот сейчас пишу книгу. Очень интересная тема – про трагедию из Древней Греции. Про Геракла. Ты знаешь, кто такой Геракл?