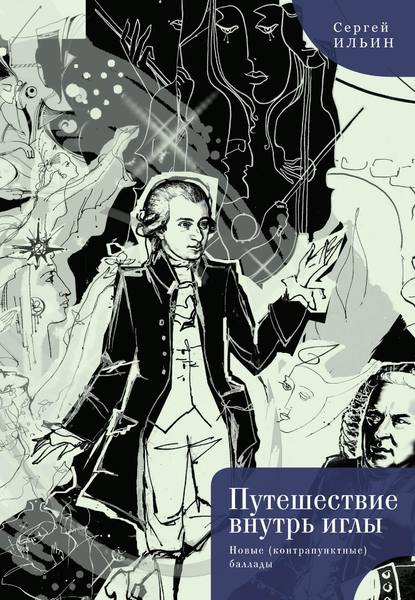По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Свинка и кот в сапогах,
паровозик и плюшевый мишка, —
в темный глядят потолок,
думая думу свою.
Все они вспомнить хотят,
цепенея в дремотном забытьи,
кто был тот странный колдун,
память отнявший у них.
Утро наступит – и вновь
оживут они в детских ручонках, —
только все та же печаль
в лицах останется их.
4
В раннем детстве во время болезни, лежа с высокой температурой в постели, когда за окном ласково светит апрельское солнышко и ручьи, точно пот, с журчаньем выходят из тающих сугробов, – и такая грусть струится снаружи в открытую форточку, потому что нельзя выйти погулять, и забываешься ненадолго в любимых книгах, а потом засыпаешь, снова просыпаешься, принимаешь лекарства и опять читаешь… глядь: незаметно стемнело – и вот уже занавеска в лунном свете разыгралась на стене, что это? уходящая комнатная явь или начинающееся фантастическое сновидение? смутным страхом пронизано каждое душевное ощущение, а листва все напряженней льнет к ветвям, но ведь это прошлогодняя листва! выглядываешь в окно – сцена полночи мертва, как декорации к сыгранному спектаклю, – и вдруг, проснувшись посреди ночи, слыша дыхание родителей рядом, вспоминая сон и видя колебание теней на стене от занавески, точно уже знаешь, что есть на самом деле та заветная дверь в стене: ведь только что ты приоткрыл ее и, пройдя несколько волшебных ступеней, благоразумно вернулся… ты войдешь в нее как-нибудь потом, позже… все равно она никуда от тебя не уйдет, – и поверьте, когда-нибудь потом, спустя долгие-долгие годы, скорее всего, поздним вечером, когда дети уже уснут и по всей детской комнате – на полу, на столике и на кровати – прилягут, точно устав от игры, в живом беспорядке игрушки: здесь будет и кот в сапогах, и свинка в юбочке, и паровозик, и плюшевый мишка, и все они в серебряной полосе лунного света, что потянется наискось через всю комнату сквозь неплотно задернутые шторы, под разными углами станут смотреть в потолок и на стены, точно думая думу свою, – да, вот тогда и покажется взрослым, тихо приоткрывшим дверь, чтобы в последний раз перед долгим ночным сном взглянуть по привычке, все ли в порядке с их детьми, – да, им покажется, что эти игрушки, цепенея в волшебном наитии, хотят вспомнить, но не могут, кто же был тот странный волшебник, отнявший у них память, – ведь и завтра, когда наступит утро и игрушки оживут в детских ручонках, та же самая неизгладимая немая печаль останется на игрушечных личиках: вот ее-то, кроме самих игрушек, замечают только взрослые, которые болели в детстве, которые помнят свои мятущиеся сны во время болезни и которые до сих пор втайне убеждены, что только в тех снах видели они волшебную дверь в стене, что открывается в иные миры, в том числе и в мир игрушек.
XI. Баллада о Тонком Холоде
1
Глаза нужны нам для того, чтобы видеть жизнь, а когда жизнь проходит, оставляя после себя свой профиль – чистое бытие – глаза уже не нужны: так интересуясь каким-то историческим персонажем, мы даже просто читая о нем, инстинктивно напрягаем зрение, – нам хотелось бы его получше увидеть, правда, от него остались портреты и скульптуры, но нам этого мало, мы настолько вживаемся в него, что желаем узреть его физически, как узреваем ежедневно людей, с которыми связаны тесными житейскими узами: это происходит до тех пор, пока мы не уясним для себя окончательно историческую роль данного лица, когда же это происходит – по сути случайное, странное и, может быть, нежелательное событие – все встает на свои места и интерес к данному персонажу теряет историческую тональность, приобретая взамен художественное звучание, и жизнь тогда уступает место бытию, и процесс познания в главном заканчивается: там, где прежде неустанно работали суммарные энергии воли, ума, интуиции и воображения, теперь осталось одно только субтильное свечение и глубочайшее успокоение как их квинтэссенция, – это как если в момент кончины человека явственно увидеть выхождение из него ментального тела, явственно почувствовать, как вся прожитая жизнь его приобрела вдруг недоступное каким бы то ни было органам восприятия измерение и явственно осознать, что все произошло окончательным, необратимым и наилучшим образом.
Итак, жизнь уступает место бытию, а бытие видится уже не глазами, а «очами души», выражаясь словами Гамлета, – и подобно тому, как талантливый критик в нескольких фразах призван объяснить произведение искусства, то есть показать его сюжетно-образное единство, а то и попросту намекнуть на него, и больше ничего! так наилучшие мыслители, касавшиеся истории и исторических деятелей, хотели они того или не хотели – чрезвычайно любопытный момент! – прочерчивали всего лишь основную линию исторического повествования, показывали глубокие и вызревшие из прошлого исторические преобразования, намечали исторические тенденции будущего, а также обрисовывали тех или иных исторических лиц с точки зрения их места в историческом сюжете, – и больше ничего! и можно называть имя главного действующего лица, а можно всего лишь описать его основную образную функцию, напоминающую текучую и на себя замкнутую, наподобие чакр, цепь энергетических узлов, в которых преобладающие черты характера героя намертво сплавлены с некоторыми характерными тенденциями эпохи и общества, в которых жил и действовал данный герой, – в обоих случаях мы со стопроцентной степенью вероятности получим набросок классического художественного образа, а всякий образ, в отличие от живого человека, по самой своей природе излучает некий тонкий холод, который и есть, быть может, самое незаметное, но и самое главное отличие между тем, что мы понимаем под жизнью, и тем, что подразумеваем под бытием.
2
На Пасху в жилы мира входит тонкий холод:
как шок от слов врача о раковой болезни, —
особенно когда душой и телом молод,
и ничего нет просто жизни нам любезней.
Подобно скальпелю, что режет без наркоза,
тот холод ткань живую мира рассекает, —
и память о надрезе узком, как заноза,
нас до скончанья наших дней не покидает.
Нам кажется, что есть на этом свете вещи —
мы к ним пасхальную пронзительность относим —
что глас иных миров нам возглашают вещий, —
хоть мы по слабости о том их и не просим.
Так свойствен апогей любой хорошей драме:
но дальше жизнь идет, как караван верблюжий, —
нам мало что дает портрет в парадной раме,
написанный с душой рукою неуклюжей.
Сюжет надуманный там о спасенье мира,
соединившись с линией жестокой казни,
напоминает худшие места Шекспира, —
но здесь же и секрет читательской приязни!..
Нам неприятно слишком гладкое искусство:
ведь жизнь и смерть сопряжены совсем не гладко, —
и хочет самое глубокое в нас чувство,
чтоб неразгаданной осталась их загадка.
И как почти всегда проходят в болях роды —
намек прозрачный на финальные страданья —
так этот снег на первых детищах природы
спешит провозгласить начало увяданья.
3
Когда Эрнест Ренан, описывая детство и юность Иисуса Христа, упоминает, что у Иисуса было много сестер и братьев, но что в семье его не особенно любили и еще меньше уважали, когда, говоря о его образовании, французский исследователь отмечает полную необразованность Иисуса в смысле книжной мудрости, благодаря которой, кстати, только и мог возникнуть его лирически окрашенный религиозный радикализм, когда, далее, анализируя отношения Иисуса с Иоанном Крестителем, автор утверждает, что влияние Иоанна на Иисуса было настолько колоссальное, что, по всей видимости, если бы не трагическая смерть Крестителя, Иисус, быть может, никогда бы не стал тем, кем он стал, когда, продолжая, Ренан вводит нас во внутренний мир своего героя, убедительно показывая его главные составляющие, а именно: во-первых, инстинктивное неприятие семьи и вообще уз родства, во-вторых, заменяющее их (узы) отношение к Богу как родному отцу, в-третьих, готовность видеть вокруг себя только тех людей, которые полностью разделяют его взгляды (учеников), и в-четвертых, врожденная и сильная склонность к поэзии (образцы которой в Евангелиях встречаются на каждом шагу), когда, завершая жизнеописание этого центрального героя западного человечества, Ренан почти мимоходом замечает, что Иисус отказался облегчить собственные страдания на кресте испитием чаши крепленого вина, предпочитая встретить смерть в полном сознании (общая черта всех практикующих восточную духовность), что умер он всего лишь через три часа после распятия по причине хрупкого своего телосложения, а Пилат, удивленный столь скоропостижной смертью, потребовал подтверждение (знаменитый прокол копьем), и что не ученики его, а близкие женщины (в первую очередь, Мария Магдалена) сохранили ему верность, присутствуя на месте казни до последнего часа, – итак, принимая к сведению хотя бы эти выборочные вышеназванные детали исторического портрета Иисуса (а их в книге Ренана великое множество, и все они безукоризненно точны), невольно думаешь, насколько бы выиграл Иисус в правдивости собственного облика и прямо вытекающей из этой правдивости нашей непосредственной любви к нему, если бы церковь не возвела его в божественный статус и тем самым не исковеркала безнадежно его живой образ: поистине он стал бы для всего человечества тем, кем приблизительно является Пушкин для нас, русских, и наоборот – Иисус потерял по вине церкви в сердечном приятии (которым нельзя совершенно манипулировать извне) ровно столько, сколько потерял бы наш Пушкин, если бы Синод или правительство вздумали канонизировать, скажем, его реальное воскресение, или, еще лучше, его непорочное зачатие, – да, что там ни говори, а мужественная смерть Иисуса и его возведенное в поэзию (по жанру стихотворения в прозе) отношение к Богу как к отцу, – вот две доминанты его образа, которые буквально гвоздями врезаются в наше сознание и благодаря которым сопоставление с нашим отечественным поэтом-героем Пушкиным напрашивается само собой, причем, как это ни странно, оба лица от такого сопоставления больше выигрывают, чем проигрывают: выигрывают они «живую жизнь», а проигрывают «мертвую догму», которая не стоит даже выеденного яйца, так что и наоборот, «тонкий холод» великого (то есть просто удавшегося) художественного образа, подобно ледку в природе, по мере нашего искреннего в нем участия начинает таять и превращаться в живую воду душевного сопереживания, – бытие и жизнь, как мы видим, органически переходят друг в друга.
XII. Баллада о Небе
1. Этюд о душе
Фантазируя о чертах лица и пропорциях тела, мы склонны изменять их мысленно в свою пользу: увеличивать рост, сбавлять объем живота, утончать форму носа, поднимать лоб и опускать подбородок, вообще выправлять явно выраженные аномалии, но при этом нам не приходит в голову, что с каждым таким изменением может непредсказуемым образом измениться наша личность: нам все кажется, что это произойдет только тогда, когда мы посягнем на автономию глаз, – и потому в наших фантазиях об иных и предпочтительных физических пропорциях мы инстинктивно никогда не касаемся наших глаз, – и наверное, мы правы.
В самом деле, из всех частей тела и черт лица глаза и источаемый ими взгляд обладают максимальной степенью неопределенности и незаконченности, иными словами, какое бы выражение в них ни доминировало, не только невозможно проследить его до конца и запечатлеть в словах, но найдется всегда еще множество побочных оттенков этого взгляда, каждый из которых при изменении обстоятельств и настроения души способен сделаться на время доминантным, – и вся оптическая магия человеческого взгляда на протяжении жизни поистине столь же многообразна, как любой ландшафт, меняющийся поминутно в зависимости от солнечной интенсивности, облачной среды, времени года и суток, – но незаконченность, как важнейшее бытийственное измерение, отличает не только взгляд, но и феномен искусства, да и само мироздание в целом: правильно задуманные, но незавершенные роман, драма или эпопея весят на весах искусства гораздо больше, чем с блеском отделанные мелкие вещицы.
«…и единый план (Дантова) «Ада», – как глубокомысленно подметил Пушкин, – есть уже плод великого гения», и если бы от «Божественной Комедии», «Фауста», «Илиады», «Войны и мира», «Гамлета», «Братьев Карамазовых», «Обломова», «Процесса», «Мастера и Маргариты» и прочих им подобных гигантов остались не просто уцелевшие куски, но даже всего лишь внятные наброски, мы бы и тогда относились к ним с тем особенным духовным пиететом, который мы никак не можем натянуть по отношению к мелким вещам, сколь бы безукоризненны в чисто художественном плане они ни были.
Точно так же, когда мы смотрим в ночное небо и видим мерцающие звезды на расстоянии световых лет, быть может, давно угасшие, а свет от них пока еще в пути, когда при этом мы невольно задумываемся о Творце мира, заранее догадываясь, что найти его будет не так-то просто,– разве тогда нам не припоминается вышеприведенное высказывание Пушкина о Данте: замысел мироздания уже есть плод чьего-то гения? и разве этот замысел в нашем восприятии не остается всегда именно незаконченным: во-первых, потому, что само мироздание в непрестанном саморазвитии, а во-вторых, по причине нашей принципиальной невозможности постичь мироздание во всей его целостности?
Правда, когда от храма Аполлона остается пара колонн – это, конечно, маловато, но когда в том же храме недостает лишь пары колонн, его магия от этого только выигрывает, по крайней мере, для нас, дальних потомков эллинов, а пожалуй, и всего лишь их благодарных зрителей, – также и здесь: искусство является самой точной моделью мироздания, а кроме того, что еще важней, также и моделью нашего первичного и глубинного его восприятия, и в этом смысле допустимо предположить, что если и есть в человеческом теле орган, который более других отражает или, лучше сказать, выражает образ души, в существовании которой нам вместо веры так бы хотелось иметь полную уверенность, то это конечно глаза и их взгляд, – и вот они-то снова и снова намекают на объективное существование души, но никогда не предоставляют нам полной в том уверенности: душа в нашем интуитивном постижении всегда и при любых обстоятельствах остается незаконченной и неопределенной.
Обращает на себя внимание: тело ощутимо подвержено изменениям времени, в том числе и обрамление глаз – веки, ресницы, окружные морщины и впадины, однако сам взгляд старению почти недоступен, основное выражение его, правда, существенно меняется с возрастом, но это именно не старение, а возрастное изменение, так что у старцев с развитым сознанием взгляд и по шкале витальности не уступит взглядам молодых людей: мудрость здесь вполне уравновешивает юношескую энергию, – вот почему тело рано или поздно обращается в прах и смешивается с землей, а глаза просто раз и навсегда закрываются и их взгляд уходит в действительность, которую мы называем гипотетической, то есть такую, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть: но не в такую ли гипотетическую действительность уходит и наша душа? а точнее, не в ней ли она изначально пребывает?
Ведь наша жизнь обращается рано или поздно в прошедшее время, уподобляясь вороху сухих листьев осенью, тогда как наше ментальное тело, оставляя минувшую жизнь, устремляется в астрал, а оттуда в следующее будущее, которое тоже обратится когда-нибудь в прошлое, и стало быть, ворох сухих листьев, – у нас всегда, таким образом, есть прошлое, которое недвусмысленно указывает на тщетность любого существования, но у нас всегда же есть и будущее, которое неизбежно толкает нас к новой жизни: нельзя тем самым понять ни себя, ни жизнь, отталкиваясь только от прошлого, но еще меньше можно понять себя и жизнь, настраиваясь на одно только будущее, они повторяются, сменяя друг друга, и так было, есть и будет вечно.
Как можно преодолеть ощущение торжественного покоя прошлого? но еще больше бессмертную тоску будущего и непреодолимую к нему тяготу? для этого надобна недюжинная и постоянная внутренняя работа, нужно неустанно держать перед умственным взором неминуемый финал жизни – болезни, старость и смерть, нужно постоянно видеть и переживать жизнь как ворох сухих листьев, нужно загадывать и дальше: как последующая и послеследующая и сотая и тысячная жизнь кончатся болезнью, старостью и смертью, – и миллионная по счету жизнь превратится в ворох сухих листьев, нужно задействовать все силы фантазии, нужно представлять, как мы обретем статус какого-нибудь светоносного существа, которое способно будет преодолеть пространство и время, – но и тогда астральные болезни и астральная старость не прекратят подтачивать наш светоносный образ.
Иными словами, чтобы обрести полную независимость от времени, надобно восстановить в душе неизменяемое сознание, как будто все явления, возможные во времени – читай земной жизни – пережиты до конца, то есть до той метафизически предельной душевной сытости, когда желание заново испытать их в какой-либо вариации полностью и необратимо отсутствует, иначе говоря, вырвано из души с корнем, – и вся беда здесь только в том, что, по всей видимости, такое психологическое состояние, поистине самое религиозное из всех возможных, реально недостижимо, к нему можно только приближаться, им можно восхищаться, о нем можно мечтать, но воплотить его в собственной жизни вряд ли возможно, – впрочем, это как будто удалось Будде и многим его последователям, но и тут доказательств нет никаких и, точно так же, как в христианстве, вера подводит подо всем жирную финальную черту.
А до тех пор в любом разочаровании скрыты семена надежды и радости, разочаровавшая женщина толкает нас в объятия другой женщины, за болезнью следует выздоровление, а если даже болезнь заканчивается смертью, то разве не от смерти ожидается радикальное обновление? и пусть прожитая жизнь обратилась в ворох сухих листьев, под спудом уже зачинаются клейкие ростки, – итак, что же первичней: молодая зелень, обращающаяся по осени в сухой мертвый ворох? или этот ворох, обусловливающий по весне новую зелень? на все можно смотреть как на обреченное когда-то закончиться черепом и костями, но на все можно смотреть и как на обреченное когда-то снова начаться: нежной клейкой зеленью и улыбкой младенца.
Обе точки зрения одинаково правы, и если бы Будда указал нам только на кучу опавших листьев как итог и символ жизни, он не далеко ушел бы от умнейших Лермонтова и Шопенгауэра, но Будда предлагает нам нечто большее: он предлагает нам – оставаясь в пределах образов природы – перестать быть деревом, вечно сбрасывающим осенью и надевающим весной листву, и стать небом, раскрывающим свою безбрежную, бездонную и особенно поразительную по красоте синеву именно весной и осенью, на фоне еще не одетых или уже разодетых деревьев.
Небо – универсальный символ буддийской ниббаны, и у него тоже есть своя психология, как есть она и у дерева, но элементарная интуиция подсказывает нам, что, хотя дерево по-своему абсолютно совершенно, небо все-таки выше и значительней его, а главное, как-то больше соответствует природе и назначению человека: без дерева прожить можно, но трудно, без неба прожить никак нельзя, – метафизике и психологии неба соответствует и основная музыкальная тональность нашей жизни, ибо поскольку первоосновы бытия не существует, так как любая первооснова пребывает в комплементарном созвучии со своей противоположностью, то и для человеческого восприятия ясная лазурь и ночное звездное небо выступают не только символами бытийственной первоосновы, но и ее адекватными выражениями, так что любой феномен, увиденный, помысленный или пережитый на фоне самого светлого или самого темного неба, начинает поистине звучать, и более того, приобретает сразу наиболее выразительное звучание.
Плющ на фоне лазури, античная колонна, обвитая плющом, на фоне лазури, католический ангел или надгробный памятник на фоне лазури, – все это смысловые музыкальные аккорды по возрастающей, апогейного же изгиба эта, быть может, самая главная тональность нашей жизни достигает, когда вся прожитая жизнь представляется на фоне лазури, и тогда о ней можно сказать следующими стихами.
2. Путь домой
паровозик и плюшевый мишка, —
в темный глядят потолок,
думая думу свою.
Все они вспомнить хотят,
цепенея в дремотном забытьи,
кто был тот странный колдун,
память отнявший у них.
Утро наступит – и вновь
оживут они в детских ручонках, —
только все та же печаль
в лицах останется их.
4
В раннем детстве во время болезни, лежа с высокой температурой в постели, когда за окном ласково светит апрельское солнышко и ручьи, точно пот, с журчаньем выходят из тающих сугробов, – и такая грусть струится снаружи в открытую форточку, потому что нельзя выйти погулять, и забываешься ненадолго в любимых книгах, а потом засыпаешь, снова просыпаешься, принимаешь лекарства и опять читаешь… глядь: незаметно стемнело – и вот уже занавеска в лунном свете разыгралась на стене, что это? уходящая комнатная явь или начинающееся фантастическое сновидение? смутным страхом пронизано каждое душевное ощущение, а листва все напряженней льнет к ветвям, но ведь это прошлогодняя листва! выглядываешь в окно – сцена полночи мертва, как декорации к сыгранному спектаклю, – и вдруг, проснувшись посреди ночи, слыша дыхание родителей рядом, вспоминая сон и видя колебание теней на стене от занавески, точно уже знаешь, что есть на самом деле та заветная дверь в стене: ведь только что ты приоткрыл ее и, пройдя несколько волшебных ступеней, благоразумно вернулся… ты войдешь в нее как-нибудь потом, позже… все равно она никуда от тебя не уйдет, – и поверьте, когда-нибудь потом, спустя долгие-долгие годы, скорее всего, поздним вечером, когда дети уже уснут и по всей детской комнате – на полу, на столике и на кровати – прилягут, точно устав от игры, в живом беспорядке игрушки: здесь будет и кот в сапогах, и свинка в юбочке, и паровозик, и плюшевый мишка, и все они в серебряной полосе лунного света, что потянется наискось через всю комнату сквозь неплотно задернутые шторы, под разными углами станут смотреть в потолок и на стены, точно думая думу свою, – да, вот тогда и покажется взрослым, тихо приоткрывшим дверь, чтобы в последний раз перед долгим ночным сном взглянуть по привычке, все ли в порядке с их детьми, – да, им покажется, что эти игрушки, цепенея в волшебном наитии, хотят вспомнить, но не могут, кто же был тот странный волшебник, отнявший у них память, – ведь и завтра, когда наступит утро и игрушки оживут в детских ручонках, та же самая неизгладимая немая печаль останется на игрушечных личиках: вот ее-то, кроме самих игрушек, замечают только взрослые, которые болели в детстве, которые помнят свои мятущиеся сны во время болезни и которые до сих пор втайне убеждены, что только в тех снах видели они волшебную дверь в стене, что открывается в иные миры, в том числе и в мир игрушек.
XI. Баллада о Тонком Холоде
1
Глаза нужны нам для того, чтобы видеть жизнь, а когда жизнь проходит, оставляя после себя свой профиль – чистое бытие – глаза уже не нужны: так интересуясь каким-то историческим персонажем, мы даже просто читая о нем, инстинктивно напрягаем зрение, – нам хотелось бы его получше увидеть, правда, от него остались портреты и скульптуры, но нам этого мало, мы настолько вживаемся в него, что желаем узреть его физически, как узреваем ежедневно людей, с которыми связаны тесными житейскими узами: это происходит до тех пор, пока мы не уясним для себя окончательно историческую роль данного лица, когда же это происходит – по сути случайное, странное и, может быть, нежелательное событие – все встает на свои места и интерес к данному персонажу теряет историческую тональность, приобретая взамен художественное звучание, и жизнь тогда уступает место бытию, и процесс познания в главном заканчивается: там, где прежде неустанно работали суммарные энергии воли, ума, интуиции и воображения, теперь осталось одно только субтильное свечение и глубочайшее успокоение как их квинтэссенция, – это как если в момент кончины человека явственно увидеть выхождение из него ментального тела, явственно почувствовать, как вся прожитая жизнь его приобрела вдруг недоступное каким бы то ни было органам восприятия измерение и явственно осознать, что все произошло окончательным, необратимым и наилучшим образом.
Итак, жизнь уступает место бытию, а бытие видится уже не глазами, а «очами души», выражаясь словами Гамлета, – и подобно тому, как талантливый критик в нескольких фразах призван объяснить произведение искусства, то есть показать его сюжетно-образное единство, а то и попросту намекнуть на него, и больше ничего! так наилучшие мыслители, касавшиеся истории и исторических деятелей, хотели они того или не хотели – чрезвычайно любопытный момент! – прочерчивали всего лишь основную линию исторического повествования, показывали глубокие и вызревшие из прошлого исторические преобразования, намечали исторические тенденции будущего, а также обрисовывали тех или иных исторических лиц с точки зрения их места в историческом сюжете, – и больше ничего! и можно называть имя главного действующего лица, а можно всего лишь описать его основную образную функцию, напоминающую текучую и на себя замкнутую, наподобие чакр, цепь энергетических узлов, в которых преобладающие черты характера героя намертво сплавлены с некоторыми характерными тенденциями эпохи и общества, в которых жил и действовал данный герой, – в обоих случаях мы со стопроцентной степенью вероятности получим набросок классического художественного образа, а всякий образ, в отличие от живого человека, по самой своей природе излучает некий тонкий холод, который и есть, быть может, самое незаметное, но и самое главное отличие между тем, что мы понимаем под жизнью, и тем, что подразумеваем под бытием.
2
На Пасху в жилы мира входит тонкий холод:
как шок от слов врача о раковой болезни, —
особенно когда душой и телом молод,
и ничего нет просто жизни нам любезней.
Подобно скальпелю, что режет без наркоза,
тот холод ткань живую мира рассекает, —
и память о надрезе узком, как заноза,
нас до скончанья наших дней не покидает.
Нам кажется, что есть на этом свете вещи —
мы к ним пасхальную пронзительность относим —
что глас иных миров нам возглашают вещий, —
хоть мы по слабости о том их и не просим.
Так свойствен апогей любой хорошей драме:
но дальше жизнь идет, как караван верблюжий, —
нам мало что дает портрет в парадной раме,
написанный с душой рукою неуклюжей.
Сюжет надуманный там о спасенье мира,
соединившись с линией жестокой казни,
напоминает худшие места Шекспира, —
но здесь же и секрет читательской приязни!..
Нам неприятно слишком гладкое искусство:
ведь жизнь и смерть сопряжены совсем не гладко, —
и хочет самое глубокое в нас чувство,
чтоб неразгаданной осталась их загадка.
И как почти всегда проходят в болях роды —
намек прозрачный на финальные страданья —
так этот снег на первых детищах природы
спешит провозгласить начало увяданья.
3
Когда Эрнест Ренан, описывая детство и юность Иисуса Христа, упоминает, что у Иисуса было много сестер и братьев, но что в семье его не особенно любили и еще меньше уважали, когда, говоря о его образовании, французский исследователь отмечает полную необразованность Иисуса в смысле книжной мудрости, благодаря которой, кстати, только и мог возникнуть его лирически окрашенный религиозный радикализм, когда, далее, анализируя отношения Иисуса с Иоанном Крестителем, автор утверждает, что влияние Иоанна на Иисуса было настолько колоссальное, что, по всей видимости, если бы не трагическая смерть Крестителя, Иисус, быть может, никогда бы не стал тем, кем он стал, когда, продолжая, Ренан вводит нас во внутренний мир своего героя, убедительно показывая его главные составляющие, а именно: во-первых, инстинктивное неприятие семьи и вообще уз родства, во-вторых, заменяющее их (узы) отношение к Богу как родному отцу, в-третьих, готовность видеть вокруг себя только тех людей, которые полностью разделяют его взгляды (учеников), и в-четвертых, врожденная и сильная склонность к поэзии (образцы которой в Евангелиях встречаются на каждом шагу), когда, завершая жизнеописание этого центрального героя западного человечества, Ренан почти мимоходом замечает, что Иисус отказался облегчить собственные страдания на кресте испитием чаши крепленого вина, предпочитая встретить смерть в полном сознании (общая черта всех практикующих восточную духовность), что умер он всего лишь через три часа после распятия по причине хрупкого своего телосложения, а Пилат, удивленный столь скоропостижной смертью, потребовал подтверждение (знаменитый прокол копьем), и что не ученики его, а близкие женщины (в первую очередь, Мария Магдалена) сохранили ему верность, присутствуя на месте казни до последнего часа, – итак, принимая к сведению хотя бы эти выборочные вышеназванные детали исторического портрета Иисуса (а их в книге Ренана великое множество, и все они безукоризненно точны), невольно думаешь, насколько бы выиграл Иисус в правдивости собственного облика и прямо вытекающей из этой правдивости нашей непосредственной любви к нему, если бы церковь не возвела его в божественный статус и тем самым не исковеркала безнадежно его живой образ: поистине он стал бы для всего человечества тем, кем приблизительно является Пушкин для нас, русских, и наоборот – Иисус потерял по вине церкви в сердечном приятии (которым нельзя совершенно манипулировать извне) ровно столько, сколько потерял бы наш Пушкин, если бы Синод или правительство вздумали канонизировать, скажем, его реальное воскресение, или, еще лучше, его непорочное зачатие, – да, что там ни говори, а мужественная смерть Иисуса и его возведенное в поэзию (по жанру стихотворения в прозе) отношение к Богу как к отцу, – вот две доминанты его образа, которые буквально гвоздями врезаются в наше сознание и благодаря которым сопоставление с нашим отечественным поэтом-героем Пушкиным напрашивается само собой, причем, как это ни странно, оба лица от такого сопоставления больше выигрывают, чем проигрывают: выигрывают они «живую жизнь», а проигрывают «мертвую догму», которая не стоит даже выеденного яйца, так что и наоборот, «тонкий холод» великого (то есть просто удавшегося) художественного образа, подобно ледку в природе, по мере нашего искреннего в нем участия начинает таять и превращаться в живую воду душевного сопереживания, – бытие и жизнь, как мы видим, органически переходят друг в друга.
XII. Баллада о Небе
1. Этюд о душе
Фантазируя о чертах лица и пропорциях тела, мы склонны изменять их мысленно в свою пользу: увеличивать рост, сбавлять объем живота, утончать форму носа, поднимать лоб и опускать подбородок, вообще выправлять явно выраженные аномалии, но при этом нам не приходит в голову, что с каждым таким изменением может непредсказуемым образом измениться наша личность: нам все кажется, что это произойдет только тогда, когда мы посягнем на автономию глаз, – и потому в наших фантазиях об иных и предпочтительных физических пропорциях мы инстинктивно никогда не касаемся наших глаз, – и наверное, мы правы.
В самом деле, из всех частей тела и черт лица глаза и источаемый ими взгляд обладают максимальной степенью неопределенности и незаконченности, иными словами, какое бы выражение в них ни доминировало, не только невозможно проследить его до конца и запечатлеть в словах, но найдется всегда еще множество побочных оттенков этого взгляда, каждый из которых при изменении обстоятельств и настроения души способен сделаться на время доминантным, – и вся оптическая магия человеческого взгляда на протяжении жизни поистине столь же многообразна, как любой ландшафт, меняющийся поминутно в зависимости от солнечной интенсивности, облачной среды, времени года и суток, – но незаконченность, как важнейшее бытийственное измерение, отличает не только взгляд, но и феномен искусства, да и само мироздание в целом: правильно задуманные, но незавершенные роман, драма или эпопея весят на весах искусства гораздо больше, чем с блеском отделанные мелкие вещицы.
«…и единый план (Дантова) «Ада», – как глубокомысленно подметил Пушкин, – есть уже плод великого гения», и если бы от «Божественной Комедии», «Фауста», «Илиады», «Войны и мира», «Гамлета», «Братьев Карамазовых», «Обломова», «Процесса», «Мастера и Маргариты» и прочих им подобных гигантов остались не просто уцелевшие куски, но даже всего лишь внятные наброски, мы бы и тогда относились к ним с тем особенным духовным пиететом, который мы никак не можем натянуть по отношению к мелким вещам, сколь бы безукоризненны в чисто художественном плане они ни были.
Точно так же, когда мы смотрим в ночное небо и видим мерцающие звезды на расстоянии световых лет, быть может, давно угасшие, а свет от них пока еще в пути, когда при этом мы невольно задумываемся о Творце мира, заранее догадываясь, что найти его будет не так-то просто,– разве тогда нам не припоминается вышеприведенное высказывание Пушкина о Данте: замысел мироздания уже есть плод чьего-то гения? и разве этот замысел в нашем восприятии не остается всегда именно незаконченным: во-первых, потому, что само мироздание в непрестанном саморазвитии, а во-вторых, по причине нашей принципиальной невозможности постичь мироздание во всей его целостности?
Правда, когда от храма Аполлона остается пара колонн – это, конечно, маловато, но когда в том же храме недостает лишь пары колонн, его магия от этого только выигрывает, по крайней мере, для нас, дальних потомков эллинов, а пожалуй, и всего лишь их благодарных зрителей, – также и здесь: искусство является самой точной моделью мироздания, а кроме того, что еще важней, также и моделью нашего первичного и глубинного его восприятия, и в этом смысле допустимо предположить, что если и есть в человеческом теле орган, который более других отражает или, лучше сказать, выражает образ души, в существовании которой нам вместо веры так бы хотелось иметь полную уверенность, то это конечно глаза и их взгляд, – и вот они-то снова и снова намекают на объективное существование души, но никогда не предоставляют нам полной в том уверенности: душа в нашем интуитивном постижении всегда и при любых обстоятельствах остается незаконченной и неопределенной.
Обращает на себя внимание: тело ощутимо подвержено изменениям времени, в том числе и обрамление глаз – веки, ресницы, окружные морщины и впадины, однако сам взгляд старению почти недоступен, основное выражение его, правда, существенно меняется с возрастом, но это именно не старение, а возрастное изменение, так что у старцев с развитым сознанием взгляд и по шкале витальности не уступит взглядам молодых людей: мудрость здесь вполне уравновешивает юношескую энергию, – вот почему тело рано или поздно обращается в прах и смешивается с землей, а глаза просто раз и навсегда закрываются и их взгляд уходит в действительность, которую мы называем гипотетической, то есть такую, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть: но не в такую ли гипотетическую действительность уходит и наша душа? а точнее, не в ней ли она изначально пребывает?
Ведь наша жизнь обращается рано или поздно в прошедшее время, уподобляясь вороху сухих листьев осенью, тогда как наше ментальное тело, оставляя минувшую жизнь, устремляется в астрал, а оттуда в следующее будущее, которое тоже обратится когда-нибудь в прошлое, и стало быть, ворох сухих листьев, – у нас всегда, таким образом, есть прошлое, которое недвусмысленно указывает на тщетность любого существования, но у нас всегда же есть и будущее, которое неизбежно толкает нас к новой жизни: нельзя тем самым понять ни себя, ни жизнь, отталкиваясь только от прошлого, но еще меньше можно понять себя и жизнь, настраиваясь на одно только будущее, они повторяются, сменяя друг друга, и так было, есть и будет вечно.
Как можно преодолеть ощущение торжественного покоя прошлого? но еще больше бессмертную тоску будущего и непреодолимую к нему тяготу? для этого надобна недюжинная и постоянная внутренняя работа, нужно неустанно держать перед умственным взором неминуемый финал жизни – болезни, старость и смерть, нужно постоянно видеть и переживать жизнь как ворох сухих листьев, нужно загадывать и дальше: как последующая и послеследующая и сотая и тысячная жизнь кончатся болезнью, старостью и смертью, – и миллионная по счету жизнь превратится в ворох сухих листьев, нужно задействовать все силы фантазии, нужно представлять, как мы обретем статус какого-нибудь светоносного существа, которое способно будет преодолеть пространство и время, – но и тогда астральные болезни и астральная старость не прекратят подтачивать наш светоносный образ.
Иными словами, чтобы обрести полную независимость от времени, надобно восстановить в душе неизменяемое сознание, как будто все явления, возможные во времени – читай земной жизни – пережиты до конца, то есть до той метафизически предельной душевной сытости, когда желание заново испытать их в какой-либо вариации полностью и необратимо отсутствует, иначе говоря, вырвано из души с корнем, – и вся беда здесь только в том, что, по всей видимости, такое психологическое состояние, поистине самое религиозное из всех возможных, реально недостижимо, к нему можно только приближаться, им можно восхищаться, о нем можно мечтать, но воплотить его в собственной жизни вряд ли возможно, – впрочем, это как будто удалось Будде и многим его последователям, но и тут доказательств нет никаких и, точно так же, как в христианстве, вера подводит подо всем жирную финальную черту.
А до тех пор в любом разочаровании скрыты семена надежды и радости, разочаровавшая женщина толкает нас в объятия другой женщины, за болезнью следует выздоровление, а если даже болезнь заканчивается смертью, то разве не от смерти ожидается радикальное обновление? и пусть прожитая жизнь обратилась в ворох сухих листьев, под спудом уже зачинаются клейкие ростки, – итак, что же первичней: молодая зелень, обращающаяся по осени в сухой мертвый ворох? или этот ворох, обусловливающий по весне новую зелень? на все можно смотреть как на обреченное когда-то закончиться черепом и костями, но на все можно смотреть и как на обреченное когда-то снова начаться: нежной клейкой зеленью и улыбкой младенца.
Обе точки зрения одинаково правы, и если бы Будда указал нам только на кучу опавших листьев как итог и символ жизни, он не далеко ушел бы от умнейших Лермонтова и Шопенгауэра, но Будда предлагает нам нечто большее: он предлагает нам – оставаясь в пределах образов природы – перестать быть деревом, вечно сбрасывающим осенью и надевающим весной листву, и стать небом, раскрывающим свою безбрежную, бездонную и особенно поразительную по красоте синеву именно весной и осенью, на фоне еще не одетых или уже разодетых деревьев.
Небо – универсальный символ буддийской ниббаны, и у него тоже есть своя психология, как есть она и у дерева, но элементарная интуиция подсказывает нам, что, хотя дерево по-своему абсолютно совершенно, небо все-таки выше и значительней его, а главное, как-то больше соответствует природе и назначению человека: без дерева прожить можно, но трудно, без неба прожить никак нельзя, – метафизике и психологии неба соответствует и основная музыкальная тональность нашей жизни, ибо поскольку первоосновы бытия не существует, так как любая первооснова пребывает в комплементарном созвучии со своей противоположностью, то и для человеческого восприятия ясная лазурь и ночное звездное небо выступают не только символами бытийственной первоосновы, но и ее адекватными выражениями, так что любой феномен, увиденный, помысленный или пережитый на фоне самого светлого или самого темного неба, начинает поистине звучать, и более того, приобретает сразу наиболее выразительное звучание.
Плющ на фоне лазури, античная колонна, обвитая плющом, на фоне лазури, католический ангел или надгробный памятник на фоне лазури, – все это смысловые музыкальные аккорды по возрастающей, апогейного же изгиба эта, быть может, самая главная тональность нашей жизни достигает, когда вся прожитая жизнь представляется на фоне лазури, и тогда о ней можно сказать следующими стихами.
2. Путь домой