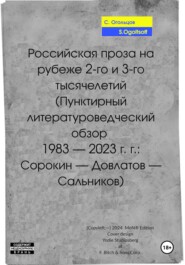По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я поднялся на площадку, где лестничные марши делали окончательный поворот к Павильону и зачаровано застыл на месте пред яркой феерией цвета и воздушности. Кубометр пространства заполненный семейством мыльных пузырей—от совсем крохотуль до громадин—застыли в своей невесомости, переливались цветами всевозможно радостных оттенков радуги. Ух, ты!.
Моё отклонение от запрограммированного курса было замечено кем-то в группе и меня громко одёрнули снизу: —«Огольцов! Уходим!» Бросив прощальный взгляд на недостижимый уже вход в Павильон на верхней площадке, присоединяюсь к экскурсии.
(…что осталось за недостигнутой дверью не знаю, открытие же заключается вот в чём: порой один лишь шаг в сторону от торной колеи ведёт к новым блистающим мирам, но, как гласит народная мудрость в стране первой вставшей на путь строительства социализма: —«шаг вправо, шаг влево расценивается как попытка к бегству, предупреждать не станут, откроют огонь на поражение»…)
Заключительное, третье, открытие того дня подстерегало меня в Государственном Универсальном Магазине, он же ГУМ, на Красной Площади, куда мы прибыли уже без экскурсовода. Там я узнал, что мечты сбываются, но только нужно быть готовым к их исполнению…
У входа в ГУМ нам сказали собраться на этом самом месте через полчаса и экскурсия была распущена в свободный поиск.
Изнутри ГУМ похож на просторный трюм океанского сухогруза – колодцы пустоты, а вокруг них многоэтажные переходы и торговые секции вдоль бортов.
В одном из отсеков на третьем этаже продавали бильярд моей мечты и именно за десять рублей. Как я проклинал своё обжорство! Из выданной матерью суммы я уже заплатил за два мороженых – одно утром на вокзале и ещё одно на ВДНХ. Пришлось сказать мечте «прощай» и, чтобы хоть как-то подсластить горечь разочарования, я съел ещё одно, прямо в ГУМе.
Вечером, усталые, но, в общем, довольные (если не вспоминать осечку с бильярдом) мы выехали из Москвы в Ленинград…
В Городе на Неве нас определили на постой в какую-то школе на Васильевском острове, недалеко от Зоосада. А в самой школе нам выделили спортзал, половину которого успела уже занять экскурсия из Полтавы. Мы их совсем не стеснили—это был просторный спортзал—и только перенесли несколько из чёрных спортивных матов из их угла в противоположный. Вдобавок, нам выдали казарменные одеяла, чтоб завернуться в них и спать с большим удобством, чем королевский двор Франции при бегстве из восставшего Парижа в книге Александра Дюма Двадцать Лет Спустя, где бедным аристократам приходилось спать на голой соломе.
Для трёхразового питания, мы трижды в день шагали пару кварталов до столовой по ту сторону горбатого моста над рекой Мойкой. Очень тихое место, ни малейшего уличного движения вдоль набережной. Наши старшие платили вперёд бумажными талонами и девочки экскурсии накрывали квадратные столы для нас, ожидавших снаружи. Ждать иногда приходилось долго, потому что кроме нашей и Полтавской там столовались и другие группы, но не из нашего спортзала. В таком случае, мы отходили постоять на арочном мосту над узкой речкой с неприметным течением тёмной воды меж высоких берегов в гранитной облицовке.
“На берегу Мойки
Ели мы помойки”
Такую эпиграмму сложил кто-то из нашей группы.
(…рифма, что и говорить, безупречна, но лично я без претензий к тамошней пище – всё как всегда в любой столовой, что подворачивалась на моём жизненном пути…)
Для белых ночей мы малость припоздали, но всё остальное было на месте – и Невский Проспект, и Дворцовый мост, и пробежка рысью по залам Эрмитажа с многометровым разрушением Помпеи Карла Брюллова и с мирными, но маломерными картинами Голландских мастеров.
В Исакиевском Соборе для нас даже запустили Маятник Фуко свисавший с высот главного купола. Тот поболтался, рассекая воздух в гулком просторе храма, пред насупленными ликами настенных икон, а потом вышиб из ряда высоких деревянных кеглей одну, которую сперва как бы и не замечал.
– Вот видите? – радостно вскричал экскурсовод при Соборе. – Земля, всё-таки вертится! Маятник Фуко только что доказал это с научной достоверностью.
Революционный крейсер Аврора, почему-то не позволил нам подняться к нему на палубу, зато мы послушали выстрел пушки Адмиралтейства, которым каждый день там отмечают полдень. Посетили Пискарёвское кладбище с ровными зелёными газонами поверх братских могил людей умерших от голода во время Фашистской Блокады, с тёмной стеной, и неглубоким бассейном для мелочи, что набросали посетители на его дно.
День посещения Петергофа выдался пасмурным и, пересекая Финский залив, мы не видели моря, а только близкую пелену тумана над кругом желтоватой воды с мелкими волнами, по которым катер шёл как по озеру с песчаным дном. Было скучно и сыро, а когда я вышел из зала для пассажиров и спустился по короткой лесенке на корму, совсем близко к бурлящей мутно-жёлтой массе взбитой винтом воды, явился корабельный юнга сказать, что пассажирам тут нельзя находиться. Я взобрался по лесенке обратно, а он повесил поперёк неё железную цепь и начал мыть палубу кормы верёвчатой шваброй.
Зато вода петергофских фонтанов рвалась вверх высокими колоннами белопенных струй, наполняя канал под дворцом на взгорке, хотя он был закрыт на реставрацию…
Всё в Ленинграде оказалось прекрасным, как и положено Колыбели Революции. Погода снова наладилась и на первом этаже Морского Музея стоял Ботик Петра Великого, размером почти с бригантину, а на втором висели картины полные воды и дыма славных побед Русского Флота, начиная с битвы в Синопской бухте.
На первом этаже Зоологического Музея громадился скелет из костей кита, а на втором раскинулась панорамная композиция про жизнь в Антарктиде, за стеклянной перегородкой. На заднике вырисовывались снега в белом поле, а ближе к стеклу стояли несколько взрослых пингвинов задрав клювы в воздух. Их окружал детский сад пингвинят различных размеров, чтобы показать как они меняются по мере роста.
Сначала они мне очень понравились – такие пушистые милашки, но всё испортила мысль, что они ведь чучела. Три дюжины живых птиц убиты в образовательных целях. Мне перехотелось смотреть дальше и я спустился к скелету кита, тоже обглоданного ни за что. Пришлось покинуть музей.
В остеклённом киоске рядом с Зоологическим Музеем я купил шариковую ручку—в Конотопе они ещё не продавались—и пару запасных ампул, поговаривали, будто с одной можешь писать целый месяц…
В тот день я первым поел в столовой и вышел на соседний мост над Мойкой дожидаться остальных. Меж высоких стен реки осторожно пробирался белый катерок раздвигая чёрную воду на две длинные бугристые волны. Пожилой человек поднялся в центр моста, где я стоял, и предупредил, что мои штаны сзади выпачканы. Меня он не удивил, потому что за пару дней до этого я где-то сел на скамейку, которая оставила на заднице штанов беловатое пятно, как от Сосновой смолы. Неприятно носить такую метку сзади, но сколько я не скрёб пятно, оно не сходило, так что я старался просто про него не думать.
Он спросил откуда я.
– Мы на экскурсию приехали. С Украины.
Лицо его поугрюмело и осунулось: —«Украина», – сказал он. – «Мне там в войну паяльной лампой бок сожгли».
Мне вспомнился истошный визг Машки, когда пришли её резать, гуденье синего пламени из сопла паяльной лампы, трещины в почернелой шкуре неподвижной туши.
Он умолк, и я тоже, чувствуя себя виноватым, что приехал оттуда, где его пытали. Хорошо хоть наша группа вывалила, наконец-то, из столовой.
Полтавская группа уехала на два дня раньше нас. В наш последний Ленинградский вечер мы посещали цирк-шапито. Места оказались на самом верху, под колыханьем брезентовой крыши… Это было совместное представление цирковых артистов из братских стран социализма. На арену вытащили как бы детсадовские качели. Пара Монгольских акробатов дружно прыгали на конец доски, чтобы подкинуть третьего другим концом. Запущенный артист делал сальто в полёте и приземлялся на плечи силача-акробата, что дожидался на арене. Потом толкачи запускали ещё одного, а вслед ему третьего – три человека навалены на нижнего, точь-в-точь как после битвы при Калке.
Гимнасты из ГДР выступали на четырёх турниках расставленных квадратом, крутили «солнце» и перелетали на турник напротив. Потом Чешские дрессировщики вывели группу шимпанзе, которые начали вертеться на турниках оставшихся после Немцев, только куда смешнее.
На следующий день мы уехали не заходя в столовую, наверное проели уже все свои талоны. Был очень удобный поезд без пересадок, через Оршу и Конотоп. Только он отправлялся вечером, а у меня после всего съеденного за экскурсию мороженого, покупки шариковой ручки и платы за цирковой билет, от десяти рублей, что выдала мать, осталось 20 коп.
В обед я съел пару пончиков с повидлом, но к пяти часам, когда мы сидели уже на вокзале в зале ожидания, Людмила Константиновна заметила моё уныние и спросила в чём дело. Я признался, что голоден, а деньги кончились, и она одолжила мне один рубль.
В гастрономе недалеко от вокзала я купил хлеба и рыбину в коричневато жирной чешуе, а вся обвязана тонкими бечёвками. Схватив завёрнутую в бумагу провизию, я поспешил на вокзал, где наш поезд уже подавали на посадку. Зайдя в вагон, я тут же сел за столик под окном и начал есть. Очень вкусная оказалась рыба, легко крошится, но не такая жирная как ожидаешь глядя на промасленную чешую, суховата. Половину я съел, а что осталось завернул в бумагу и положил на третью полку. Она всё равно не предусмотрена для пассажиров, а только для багажа.
Какой-то одиночный попутчик, с виду на пару лет старше меня, достал колоду карт и предложил сыграть с ним в подкидного дурака. Я пару раз выиграл, а когда он в очередной раз тасовал карты, я блеснул одной из расхожих Кандыбинских прибауток в эту тему. «Не умеешь работать головой, работай руками». Он оглянулся на пару девочек из нашей экскурсионной группы, что сидели в купе через проход и раздражённо отвечал: —«Меньше транди, целее будешь». Я заметил явную злость в его взгляде, а когда снова выиграл, то отказался продолжать игру, да он и не настаивал…
Мы прибыли в Конотоп утром следующего дня после небывало проливного дождя. Всю ночь он лил и лил за окнами вагона. Возможно, это сказалось на моих туфлях, но размер их явно уменьшился. Я их насилу натянул и то не до конца, часть пяток осталась свисать снаружи.
Болезненно ковыляя, спустился я крутыми ступенями вагона на перрон и там дождался пока экскурсанты скроются в подземном переходе к Вокзалу. Потом я снял туфли и в одних носках пошлёпал по мокрой Четвёртой Платформе до самого её конца, к знакомому пролому в привокзальной ограде. Пролом выходил к Железнодорожному Техникуму, который я обогнул и очень скоро зашёл на Базар.
По пути никто не пялился на мои мокрые как хлющ носки, потому что не было ни пешеходов, ни транспорта, а только лужи расстилались повсеместно. За Базаром, земля совершенно исчезла под водной гладью объединившихся луж. Я плюхал вперёд по головке рельс трамвайного пути, что чуть выступала над поверхностью для канатоходца-одиночки, а когда дошёл до Нежинской – попёр вброд, что уж там оставалось…
Позднее мать посмеивалась, делясь с соседками, что из двух столиц я заявился с туфлями в руках, и те на один сантиметр короче… Никогда я не слышал и не читал нигде, что можно нарастить своей ступне один сантиметр всего за одну ночь…
Первого сентября мать дала мне один рубль, вернуть долг. Однако на торжественной линейке в школьном дворе Людмилу Константиновну не было видно, а в Учительской мне сказали, что она болеет и объяснили как найти её квартиру в двухэтажке рядом с Базаром, куда я и отправился.
У себя в квартире, она всё повторяла, ах, да зачем такая спешка. Мне как-то даже показалось, что ей не хочется, чтоб я вернул этот долг вообще. А потом в комнату вошёл её отец и я очень удивился, увидев, что это Константин Борисович, киномеханик Клуба. Вот до чего мир тесен.
(…а если бы меня сейчас спросили: что стало самым ярким из всех впечатлений полученных в Культурной Столице России, то—не колеблясь и секунды—вот оно: вечерний светлый сумрак вдоль каменного парапета с проёмом спуска по каменным ступеням к неохватной шири течения Невы возле Дворцового моста, о нижнюю ступень вдруг хлюпает случайная волна, взлетают высокие брызги и визги девочек нашей экскурсии, что стоят у воды…)
~ ~ ~
Нет, но до чего же прав был Ленин в одном из своих томов: нет силы мощнее силы привычки… Взять, к примеру, альбомы светских барышень XIX века, куда Евгений Онегин небрежным росчерком пера врисовывал бакенбардистый профиль своего автора на странице следующей за автографом какого-нибудь поручика Ржевского. Менялись моды, поколения, но всякая мало-мальски приличная девица держала—в качестве сосуда для слива излияний несмелой девичьей души и сокровенных её мечт, и для экспромтных творческих секреций своих гостей и визитёров—такой альбом. Нет, не довелось мне прикоснуться к увядшим, но исполненным невинного очарования страницам, и тем не менее, у большинства девиц из одного со мною класса альбомчики имелись. Неистребимые как тараканы. А всё почему? Читай по губам: при! – выч! – ка!
Конечно, после массы войн, трёх революций и радикальных перемен в укладе общественной жизни, борьба за существование обучила этих сентиментальных наперсников HDD (=непостижимая девичья душа) хитро? маскироваться – никаких шёлковых бантиков на обложке, никаких кремовых страниц. Толстая тетрадь из 48 страниц линованной бумаги общего назначения в дерматиновой обложке за 38 коп. – таким был среднестатистический внешний облик альбома HDD в нашем классе. На смену длинноносым автопортретам светских щёголей пришли вырезки из цветных иллюстраций журнала Огонёк, посаженные, для надёжности, на щедрую смазку из канцелярского клея… А вот стихи сумели сохраниться:
Зачем, зачем? Я не знаю
Нужны так рельсы трамваю…
Зачем, зачем? Я не знаю – зачем?
Зачем, зачем? Я не знаю