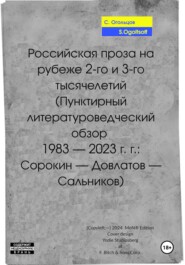По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хулиганский Роман (в одном, охренеть каком длинном письме про совсем краткую жизнь), или …а так и текём тут себе, да…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я слова забыл!
Ну раз пошла такая пьянка… Да простит меня Чуба, да простят меня слушатели Конкурса исполнителей, что заполнили в тот вечер танцплощадку и прилегающие аллеи Парка Отдыха, но я сделал шаг вперёд и, себя не слыша, заорал в микрофон, что:
"И над степью широкой
Ворон пусть не кружит,
Мы ведь целую вечность,
Собираемся жить…"
К следующему куплету Владя пришёл в себя и мы добили песню вместе, дуэтом, как и обещали…
Натали? и я больше не ездили на Сейм. Случилась размолвка, хотя я так и не понял почему она сказала мне больше не приходить…
Конечно же, я страдал и, конечно же, возликовал через полмесяца, когда моя сестра, она же Рыжая, сказала: —«Я сегодня Григоренчиху видела, так она говорит, Огольцов уехал куда-то или как, а я говорю, никуда не уехал, а что, а она говорит, так чего он тогда не приходит, так вы что, поссорились или как?»
– Ничего мы не ссорились. Мала! Ты – солнце!!
Купальный сезон уже прошёл и мы начали гулять в Парке КПВРЗ, где она показала мне уединённую скамейку позади нестриженых кустов вдоль аллеи. Я сто раз проходил по той аллее и не догадывался что за кустами есть скамейка, что стояла как бы в гроте из листвы.
Мы приходили туда с началом сумерек, когда вдоль аллеи загорались пара бледных ещё фонарей. Самая яркая, далёкая лампочка светилась над кассой летнего кинотеатра. Киномеханик Гриша Зайченко, напарник Константина Борисовича, включал магнитофон в кинобудке и наполнял тёмный парк звучанием динамиков со сцены:
"Словно сумерки наплыла тень —
То ли ночь, то ли день…"
Потом лампочка над кассой гасла и начинался сеанс. Скамейка погружалась в темноту своей лиственной пещеры. К этому моменту наш разговор иссякал. Она откидывала голову на мою руку вытянутую вдоль верхнего бруса скамеечной спинки и – мир переставал существовать. Особенно если на ней не было лифчика и она была в зелёном платье с молнией от верху до пояса спереди…
Но всему есть какой-то предел и когда, погрузившись в иное измерение, моя ладонь соскальзывала по животу ниже впадинки её пупка и пальцы трогали резинку её трусиков, голова поверх моего плеча недовольно покачивалась и она издавала «ммм», как будто вот-вот очнётся, и я беспрекословно скользил к сокровищам повыше…
Потом сеанс кончался. Лампочка над билетной кассой вспыхивала снова. Мы пережидали пока считанные киноманы пройдут по аллее за стеною кустов, прежде чем встать со скамьи. Какая-то опустошённая охмелелость… Ей надо идти… Папа говорил… Не позже…
Мир погряз в глубочайшей осени – зябко, мокро, пусто. Листва опала и голые чёрные ветки уже не скрывали скамейку. Да и кто сядет на мокрую? По инерции, мы продолжали приходить в парк, но и он стал враждебным. Однажды посреди дня мужик за тридцать начал на меня наезжать. У меня не было шансов против него. Хорошо, что ребята из нашей школы позвали его распивать вино за танцплощадкой, а мы тем временем ушли…
Первый снег упал и растаял, грязь прихватило морозом. Потом снова выпал снег и – началась зима… В один из свиданных вечеров, когда я расстегнул на ней пальто, чтобы добраться до любимых грудей, она отпрянула и сказала, что не может позволить всё человеку, который ей, фактически, никто.
Это я-то никто?!. После всего, что было между нами?!.
(…выяснение отношений в рухнувшей связи – кто был прав, а кто лев, это просто запоздалый выстрел из пушки на корме вслед паруснику уплывающему прочь своим курсом…)
Мы расстались. Прощай, сладчайшая Натали?…
"Ах, кабы на цветы да не морозы…"
~ ~ ~
В конце февраля, год спустя после того, как я сказал матери, что согласен на хирургическую операцию, мне пришлось лечь под нож. Настоящий мужчина держит слово, нет?
С вечера и всю ночь у меня резко болел живот, а вызванная с утра «скорая» обнаружила аппендицит для срочного удаления, пока не поздно. До машины на улице я дошёл сам, но там пришлось лечь в брезентовые носилки на полу. Мать тоже хотела поехать, но по Нежинской как раз шла какая-то из её знакомых, которая опаздывала на работу и мать уступила ей место в тесном фургоне, она всегда говорила, что Юлия Семёновна очень хорошая юрконсультант и все её уважают.
В городской больнице, несмотря на неотложность диагноза, меня поленились нести в носилках и на второй этаж пришлось переть своим ходом. Там меня переодели в синий больничный халат поверх белой блузы без пуговиц и отвели в операционную.
Обтянутый кожзаменителем стол оказался слишком высоким, но мне помогли взобраться, уложили и привязали все мои руки и ноги широкими крепкими ремнями. Поверх лица поставили высокую рамку и занавесили белым, чтобы не подглядывал как меня там разделывают. Медсестра, которую я тоже не мог видеть, стояла позади моей головы и задавала всякие отвлекающие вопросы. Это заменяло общий наркоз, потому что мне сделали местную анестезию шприцем в живот.
Укол подействовал, я чувствовал как меня там внизу кромсают и лезут внутрь, но всё это как-то отстранённо, как будто режут на мне брюки, хотя в этот момент из одежды на мне оставалась лишь больничная блуза без пуговиц. Правда, пару раз стало действительно больно, я даже застонал сквозь зубы, но невидимая медсестра позади головы начала заливать какой я молодец и терпеливый, ей таких ещё не попадалось, так что пришлось заткнуться и не мешать им делать своё дело. Однако на койку в длинном коридоре меня всё-таки повезли на каталке…
Через два дня мне принесли записку от Влади, он писал, что на первом этаже его не пропускают и что наш класс придёт меня проведать, когда мне разрешат вставать, и чтобы я поскорее выздоравливал, а то Чуба оборзел вконец и прыгает на него как Мазандаранский тигр.
После операции, меня предупредили сдерживать кашель и всячески избегать нагрузок, чтобы швы не разошлись. Но попробуй избежать с такими корешами!
– «Чуба Маза…», – и, стискивая клочок бумаги в кулаке, я утыкаю лицо в подушку, чтобы сдержать накатывающий хохот.
– «Мандара… тигр.»
Хха! Хаха! Уй! Больно же!.
И когда я всё же дочитал, с осторожными передышками—чтоб ни я ни швы не лопнули—записку до конца, настырные строчки продолжали крутиться в уме:
– «Тигр чуба Мазанда…»
Хаха! Хаха!
И слёзы просачиваются через плотно стиснутые веки. Сам ты, Владя, тигр… Сука ты Мазандаранский!
Через десять дней меня выписали, а ещё через неделю я пришёл в больницу, чтоб выдернули нитки швов из живота и дали освобождение от Физкультуры на один месяц…
Кстати, почерк у Влади – непревзойдённый чемпион по неразборчивости.
Половину его сочинений по Русской литературе учительница возвращала даже без проверки, просто рисовала большую «Х» по всей странице красной пастой шариковой ручки. Иногда он и сам не врубался что у него там накуролесено и обращался ко мне за расшифровкой его пляшущих человечков.
Я был третейским экспертом в его криптографических диспутах с Зоей Ильиничной. – «Нет-нет, тут нет ошибки, он всегда так пишет «е», а вот это у него «а» такая».
– Какая «е»? Какая «а»? Да тут одни только птички!
– Вот именно! Но вот у этих птичек хвостик чуть длиннее, видите?
Когда отец сказал, что нам надо поговорить, я внутренне наёжился. Не то, чтоб у меня с ним конфликты были, на это просто не оставалось времени – пришёл, поел, и погнал дальше. Последняя разборка случилась год с чем-то назад, уже не помню из-за чего. Архипенки тогда уже на Рябошапку съехали – ристалище, хоть на конях скачи, вот и сцепились, прямо на кухне. Я сгоряча пригрозил даже уйти из дому. Или чего-то такого начитался? А отец спокойно так: —«Ну, иди».
Деваться некуда: —«Ну, и уйду!»
На крыльцо выскочил, борец за свободу от гнёта предков и – тормознул. Свобода встретила меня проливным дождём осенним. Блин! Куда? Единственное сухое место, что на ум пришло – чердак над кинозалом Клуба, но пока туда дойду, пиджак насквозь мокрый будет. А на крыльце торчать тоже не то – вот-вот кто-нибудь высунуться может: —«Так ты ж типа как идти куда-то собирался?»
Короче, порулил я в курятник во дворе. Хотя пока не скажешь, что курятник, никто и не догадается. Когда Архипенки переезжали, старый кухонный стол оставили. Ну вытащили его во двор – а дальше? На дрова пустить жалко вроде. Столешница метр на метр, под ней соответственный ящик и дверцы тоже фанерные. Ну в общем, предки как обычно, подсобное хозяйство разводить затеяли, двух кур прикупили для готового курятника.
Каждой квочке – поводок на ногу из бечёвки и за отдельную ножку стола, чтоб в огороды не подались с концами. Паситесь, дорогуши, вокруг стола, да не забудьте яйца нести.
Какие там яйца! Эти заразы бечёвками своими поперепутываются и целый день во дворе на боку валяются, хотя, между прочим, за разные ножки курятника привязаны. Ждут пока мы с Сашкой их распутывать будем. Блин! Это ж не то, что просто две верёвочки взял, да и распутал. Тут у каждой на конце по курице привязано! Лягаются как кони, но орут по-куриному, а ухватишь её, тогда распутывать – чем? Те, кому приходилось вязать морские узлы, когда обе руки заняты курицей, меня поймут.