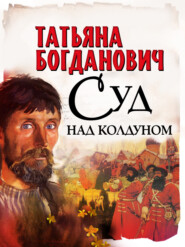По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Соль Вычегодская. Строгановы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Открыл Афонька дверь, Анну вперед пропустил. Не первый раз Анне гостей потчевать. С тех пор как Фима умерла, всё ее звали, – а так бы, кажется, назад и убежала. Сени большие, высокие, на стенах факелов много зажжено, а сразу темно кажется – дым, чад, перегаром винным воняет, потом. Не продохнешь. На полу объедков горы, вина лужи. Стол хоть узкий, да длинный – места всем довольно, а завалили так – скатерти не видать. Кости, головы рыбьи, кубки опрокинуты. Лепешка у каждого была для объедков. Так где там. И лепешки-то раскрошили да расшвыряли. И сами-то гости, красные, потные, растрепались все, кто сидит, а кто и поперек стола лежит. Гогочут, икают. Целовать этаких-то!
Скрепилась Анна. Виду не подала. Глаза в пол опустила. Прямо к воеводе подошла. Уж он-то краше всех! Бороденка растрепалась. Волосы взмокли, на лоб свисли. Здоровый глаз заплыл совсем. А туда же, пыжится.
Анна подошла к нему, в пояс поклонилась, пригубила из кубка и ему поднос протягивает. Он как вскочит, стал поворачиваться, – узко между лавкой и столом, – качнулся, хотел за поднос ухватиться, да из рук его у Анны и вышиб. Грохнулось все на пол – и поднос и кубок. Всю телогрею Анне залило.
– Воевода-то! И без пса валится! – крикнул молодой Пивоваров с хохотом.
– Без шапки-то не стоит!
– На лавку его поставь – не видать!
– На поднос хозяйке, заместо кубка! – кричали гости.
Воевода весь кровью налился. Хватил кулаком по столу да как гаркнет:
– Молчать! Не моги! В государево место я! Вроде как сам царь!
Хохот тут такой поднялся, что кубки заплясали.
– Царь одноглазый! – кричат. – Ростом не вышел! Обличьем будто не схож.
Воевода только рот разевает. Вертится во все стороны. Грозит кулаками, топает. Орет, себя не помнит:
– Молчать! Псы! Смерды! В холодную их! Пристава! Вяжи их!
Иван тоже вскочил, по столу стукнул, крикнул:
– Да погодьте вы, что ль, шалые!
А воеводе поклонился и говорит:
– Не гневись, Степан Трифоныч. Выпивши малость, – с того. А мы, Строгановы, царя почитаем. И воеводе уважить рады. Не побрезгуй. Вишь, хозяйка молодая кланяется.
Афонька поднос поднял и кубок снова налил.
Воевода взглянул на Анну, приосанился, голову назад закинул, схватил кубок и выпил весь, а потом, не отерши рта, полез к Анне целоваться.
Она не удержалась, отступила, а он за руку ее схватил и сказал:
– Ништо, красавица, не пужайся. Я хоть и грозен, а кто до меня с почетом, – и я с лаской. Поцеловал Анну, оглянулся кругом гоголем и на лавку брякнулся. А Анна и губ обтереть не посмела – в обиду примет. Поклонилась снова в пояс и дальше пошла гостей обходить. Афонька уж опять кубок налил.
Рядом с воеводой настоятель сидел. Тот упился так, что и подняться с лавки не мог. Сидел, повизгивал, как поросенок, и носом клевал. Старик Усов уж за плечо его потряс, так он повернулся к Анне и забормотал:
– Вишь… красавица… отцу духовному… пригубь… слаже оно…
Руки трясутся, вино из кубка плещется. Еле отхлебнул и сразу выпустил. Хорошо, что Анна из руки не выпускала.
Поклонилась и ему Анна, пошла дальше, к Усову.
Усов почти что не был пьян. Поглядел на Анну, по плечу ее похлопал, сказал:
– Слыхал я, на Пермь едете. Ну, давай тебе бог, молодайка. Муж-то у тебя не больно здоров, – видно, с братом не схож.
Анна подняла голову. Максим сидел в конце стола против Ивана, голову опустил, в лице ни кровинки. Кругом хохочут все, а он и не усмехнется.
Анна кивнула Усову и пошла дальше. С одного боку обошла стол до Максима и опять вернулась и с верхнего конца по другой стороне пошла. А Иван все разливается, видно, тоже выпил, язык развязался, кричит:
– Мы, Строгановы, именитые люди. Сам Грозный царь нас жаловал. Сибирь всю повоевали. Ермак-то! Памятуешь? А может, и поболе Ермака кто сыщется, – все повоюет!
– Ты, что ль, Ермак будешь, Ивашка? – крикнул ему Тереха Пивоваров с другого конца стола.
– А то ты, небось! – захохотал Иван.
Опять до Максима дошла Анна. Кончила, слава господу, всех обошла. Только хотела к стене отойти, а Иван как крикнет:
– Что ж нас-то не попотчевала, невестушка? Ни мужа, ни меня. Аль нелюбы стали? Посля воеводы и глянуть не хошь.
Анна спорить не стала, хоть и не было такого обычая. Афонька снова ей кубок налил, и она прямо пошла к Ивану, поклонилась, пригубила, кубок подала.
Одним духом выпил Иван, рукавом рот обтер, поцеловал Анну прямо в губы и в глаза ей заглянул.
Дерзкий глаз у Ивана. Так и норовит обидеть. Не глядела бы Анна. Отошла поскорей.
А он смеется, усы расправляет.
– Ну-ну, мужа теперь, на заедку! Чай, слаже нет.
Подошла Анна к Максиму, тоже поклонилась, пригубила.
А он ей тихо шепнул:
– Не неволь, Анница. Душа не берет. Напоил Иван.
А за столом снова гомон поднялся. Голоса своего не слышно.
Иван вскочил, по столу кулаком стукнул.
– Эх, с невесткой пил, а с братом родным не выпил. Расстанную. Завтра в путь снаряжаю.
У Анны от радости дух занялся:
«Завтра! При гостях сказал – не отречется. Слава господу!»
Данилку с радости к себе прижала, поцеловала. Не слыхала, как Иван Афоньку за бутылкой романеи заморской посылал и за кубками золотыми – только на свадьбу их и подавали, а то у Ивана в повалуше в поставце стояли.
Афонька пришел, на подносе три кубка. Золотые, с каменьями: один с изумрудом, другой с лалами, третий с бирюзой. А рядом не жбан, а заморская бутылка. Как брал ее Афонька, так на пыли все пальцы отпечатались.
Афонька поставил поднос на стол перед Иваном, бутылку, раскупорили все три кубка до краев налил.
Скрепилась Анна. Виду не подала. Глаза в пол опустила. Прямо к воеводе подошла. Уж он-то краше всех! Бороденка растрепалась. Волосы взмокли, на лоб свисли. Здоровый глаз заплыл совсем. А туда же, пыжится.
Анна подошла к нему, в пояс поклонилась, пригубила из кубка и ему поднос протягивает. Он как вскочит, стал поворачиваться, – узко между лавкой и столом, – качнулся, хотел за поднос ухватиться, да из рук его у Анны и вышиб. Грохнулось все на пол – и поднос и кубок. Всю телогрею Анне залило.
– Воевода-то! И без пса валится! – крикнул молодой Пивоваров с хохотом.
– Без шапки-то не стоит!
– На лавку его поставь – не видать!
– На поднос хозяйке, заместо кубка! – кричали гости.
Воевода весь кровью налился. Хватил кулаком по столу да как гаркнет:
– Молчать! Не моги! В государево место я! Вроде как сам царь!
Хохот тут такой поднялся, что кубки заплясали.
– Царь одноглазый! – кричат. – Ростом не вышел! Обличьем будто не схож.
Воевода только рот разевает. Вертится во все стороны. Грозит кулаками, топает. Орет, себя не помнит:
– Молчать! Псы! Смерды! В холодную их! Пристава! Вяжи их!
Иван тоже вскочил, по столу стукнул, крикнул:
– Да погодьте вы, что ль, шалые!
А воеводе поклонился и говорит:
– Не гневись, Степан Трифоныч. Выпивши малость, – с того. А мы, Строгановы, царя почитаем. И воеводе уважить рады. Не побрезгуй. Вишь, хозяйка молодая кланяется.
Афонька поднос поднял и кубок снова налил.
Воевода взглянул на Анну, приосанился, голову назад закинул, схватил кубок и выпил весь, а потом, не отерши рта, полез к Анне целоваться.
Она не удержалась, отступила, а он за руку ее схватил и сказал:
– Ништо, красавица, не пужайся. Я хоть и грозен, а кто до меня с почетом, – и я с лаской. Поцеловал Анну, оглянулся кругом гоголем и на лавку брякнулся. А Анна и губ обтереть не посмела – в обиду примет. Поклонилась снова в пояс и дальше пошла гостей обходить. Афонька уж опять кубок налил.
Рядом с воеводой настоятель сидел. Тот упился так, что и подняться с лавки не мог. Сидел, повизгивал, как поросенок, и носом клевал. Старик Усов уж за плечо его потряс, так он повернулся к Анне и забормотал:
– Вишь… красавица… отцу духовному… пригубь… слаже оно…
Руки трясутся, вино из кубка плещется. Еле отхлебнул и сразу выпустил. Хорошо, что Анна из руки не выпускала.
Поклонилась и ему Анна, пошла дальше, к Усову.
Усов почти что не был пьян. Поглядел на Анну, по плечу ее похлопал, сказал:
– Слыхал я, на Пермь едете. Ну, давай тебе бог, молодайка. Муж-то у тебя не больно здоров, – видно, с братом не схож.
Анна подняла голову. Максим сидел в конце стола против Ивана, голову опустил, в лице ни кровинки. Кругом хохочут все, а он и не усмехнется.
Анна кивнула Усову и пошла дальше. С одного боку обошла стол до Максима и опять вернулась и с верхнего конца по другой стороне пошла. А Иван все разливается, видно, тоже выпил, язык развязался, кричит:
– Мы, Строгановы, именитые люди. Сам Грозный царь нас жаловал. Сибирь всю повоевали. Ермак-то! Памятуешь? А может, и поболе Ермака кто сыщется, – все повоюет!
– Ты, что ль, Ермак будешь, Ивашка? – крикнул ему Тереха Пивоваров с другого конца стола.
– А то ты, небось! – захохотал Иван.
Опять до Максима дошла Анна. Кончила, слава господу, всех обошла. Только хотела к стене отойти, а Иван как крикнет:
– Что ж нас-то не попотчевала, невестушка? Ни мужа, ни меня. Аль нелюбы стали? Посля воеводы и глянуть не хошь.
Анна спорить не стала, хоть и не было такого обычая. Афонька снова ей кубок налил, и она прямо пошла к Ивану, поклонилась, пригубила, кубок подала.
Одним духом выпил Иван, рукавом рот обтер, поцеловал Анну прямо в губы и в глаза ей заглянул.
Дерзкий глаз у Ивана. Так и норовит обидеть. Не глядела бы Анна. Отошла поскорей.
А он смеется, усы расправляет.
– Ну-ну, мужа теперь, на заедку! Чай, слаже нет.
Подошла Анна к Максиму, тоже поклонилась, пригубила.
А он ей тихо шепнул:
– Не неволь, Анница. Душа не берет. Напоил Иван.
А за столом снова гомон поднялся. Голоса своего не слышно.
Иван вскочил, по столу кулаком стукнул.
– Эх, с невесткой пил, а с братом родным не выпил. Расстанную. Завтра в путь снаряжаю.
У Анны от радости дух занялся:
«Завтра! При гостях сказал – не отречется. Слава господу!»
Данилку с радости к себе прижала, поцеловала. Не слыхала, как Иван Афоньку за бутылкой романеи заморской посылал и за кубками золотыми – только на свадьбу их и подавали, а то у Ивана в повалуше в поставце стояли.
Афонька пришел, на подносе три кубка. Золотые, с каменьями: один с изумрудом, другой с лалами, третий с бирюзой. А рядом не жбан, а заморская бутылка. Как брал ее Афонька, так на пыли все пальцы отпечатались.
Афонька поставил поднос на стол перед Иваном, бутылку, раскупорили все три кубка до краев налил.