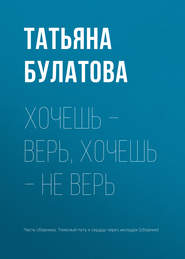По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Да. Нет. Не знаю
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сдать хочу, Аурика Георгиевна.
– Сдавайте, – разрешила доцент Одобеску и, взяв в руки блокнот, приготовилась назначить время. – Только предупреждаю: принимать буду в присутствии коллег. То есть – комиссии.
– Я знаю, – подтвердил Снежкин, но вдруг за спиной у великолепной Аурики он увидел нечто такое, отчего лицо его изменилось до неузнаваемости.
– Что с вами? – озабоченно поинтересовалась Аурика Георгиевна, заметив, что ее визави застыл с раскрытым ртом. – Вам плохо?
Снежкин отрицательно замотал головой и сделал шаг в сторону, явно увлекшись чем-то, что не отвечало теме разговора между ним и строгим доцентом Одобеску.
– Что случилось? – забеспокоилась Аурика и обернулась в том направлении, куда был направлен взгляд нерадивого студента: у нее за спиной стояла Наташа, с любопытством наблюдавшая за происходящим. – Пришла? А я тебя не заметила.
– Я только что, – пояснила девушка и завертела головой в поисках того, кому можно было бы адресовать приветствие. Кроме сидящей за столом лаборантки кафедры, по прозвищу Щелкунчик – за непропорционально выдающуюся вперед нижнюю челюсть, вышеупомянутого Снежкина и доцента Одобеску, в комнате никого не было.
– Здравствуйте, – тем не менее поздоровалась девушка и встала рядом с матерью, оказавшись с ней одного роста.
– Здрасте, – сомлел ошеломленный красотой Наташи Снежкин и расплылся в преглуповатой улыбке.
Аурика внимательно посмотрела на дочь, потом на изрядно поднадоевшего всей кафедре должника и поразилась тому, что впервые видит перед собой человека, с ходу не заявившего о том, что мать и дочь похожи, как две капли воды.
– Это моя старшая дочь, Снежкин, – представила Наташу Аурика Георгиевна не столько из соображений этикетных, сколько из соображений практических – ей была любопытна реакция студента. – Похожи?
– Нет, – пропел Андрей, и лицо его стало абсолютно глупым и счастливым. – Вообще! Не похожи. Ни грамма.
Наташа и Аурика переглянулись. Пауза затягивалась. Студент млел и не двигался с места.
– Все? – сдвинув брови, уточнила доцент Одобеску.
– Нет, – ответил Снежкин и в умилении склонил голову набок, не отрывая взгляда от покрасневший от удовольствия девушки. (Впервые за семнадцать лет Наташиной жизни никто не произнес традиционного: «Копия мамы! Вылитая Аурика!»)
– Тогда что еще? – полюбопытствовала Аурика Георгиевна.
– У вас очень красивая дочь. Правда! Можно мне с ней познакомиться?
– Можно, – рассмеялась Аурика и тут же добавила: – Но на сдаче экзамена это никак не отразится, я вам обещаю.
– А можно я приду пересдавать к вам домой? – размечтался Андрюша, и взгляд его странно затуманился.
– Можно, – нарочито ласково ответила ему мать чернобровой красавицы. – Но только после армии. Там у вас будет достаточно времени для того, чтобы восстановить все пробелы. А пока, – Аурика покровительственно взглянула на низкорослого Снежкина, – идите, готовьтесь.
– Спасибо, Аурика Георгиевна, – не растерялся студент. – Разрешите откланяться.
Аурика никак не отреагировала на игривые слова Снежкина, повернулась к нему спиной, показывая таким образом, что разговор закончен, и, обняв дочь за плечи, повела ее за шкаф, где находилось некое подобие уголка отдыха, в котором можно было уединиться для чаепития, переодевания, переобувания и обмена «секретными» новостями.
– Хочешь чаю? – по-домашнему предложила вышедшая из образа строгого преподавателя Аурика.
– Нет, – отказалась девушка, присела на ручку кресла и огляделась. Видеть мать в этой убогой обстановке было как-то странно. Наташе даже показалось, что та нескромно одета. Хотя ничего вызывающего в наряде Аурики не было. Прямая юбка кофейного цвета, батистовая блузка. Роскошным образ матери становился благодаря изысканным лакированным туфлям в цвет юбки и крошечным жемчужным запонкам на манжетах. Все остальное, предполагала Наташа, ничем не отличалось от стандартного одеяния преподавателя высшей школы. Но когда за шкаф стали заглядывать вернувшиеся с пары преподавательницы, дочь еще раз смогла убедиться в том, как поразительно отличалась сидящая в кресле знакомая и одновременно незнакомая ей женщина от своих коллег.
На минуту девушка ощутила чувство гордости за мать и призналась сама себе, что хотела бы обладать такими внешними данными, как у Аурики. Но при этом наблюдательная девушка тут же отметила, что в глазах своих коллег ее мать не находит ни одобрения, ни восхищения. В обмене приветствиями не было ни теплоты, ни искренних переживаний. «Они ее не любят!» – догадалась Наташа и с пристрастием посмотрела на Аурику, вальяжно сидевшую в единственном кресле. Со стороны могло показаться, что доцент Одобеску единственная из всех обладает правом ощущать себя хозяйкой даже здесь, в импровизированном уголке за шкафом, настолько естественны и величественны были ее движения, царственна посадка головы и снисходителен тон.
«Откуда это в ней?!» – озадачилась вопросом Наташа и еще раз внимательно посмотрела на Аурику. Ответ был очевиден: Аурика Георгиевна Одобеску не играла в хозяйку жизни – она была ею, умело отодвигая от себя все, что заставило бы ее чувствовать себя иначе. Прекрасная Золотинка на самом деле ощущала себя красавицей, умницей и относилась к этому не как к подарку судьбы, а как к своему естественному праву. Ей не были нужны комплименты, поклонники, не были нужны факты, подтверждающие ее величие. В этом смысле воспитание Георгия Константиновича и преданность Миши Коротича дали свои результаты и почти полностью освободили статную Аурику Георгиевну от каких-либо сомнений.
Означало ли это, что для Аурики Одобеску не существовало никаких авторитетов? Вовсе нет. Они присутствовали. Но в весьма ограниченном количестве. Аурика сама назначила для себя референтов, короткий список которых не менялся на протяжении всей ее долгой жизни. Но состав лиц держался ею в строжайшем секрете: ни Георгий Константинович, ни Михаил Кондратьевич, а уж тем более, Наташа, даже не догадывались о той истинной роли, которая была им уготована в ее мире. Знай об этом старшая дочь Аурики Георгиевны, она не испытала бы зависти к той, которая ее родила. И никогда бы не вступила в долгосрочное соревнование с матерью, которое со стороны выглядело, как продолжение преподавательской династии, а на деле носило характер изматывающего состязания: «выше, дальше, лучше».
Увлекшись процессом, Наташа словно забыла, что у жизни есть и другие стороны, соприкосновение с которыми способно доставить человеку удовольствие. Об их существовании она, конечно, подозревала, но увлеклась другим: ею руководило стремление выстроить жизнь рационально, с учетом своих первостепенных потребностей. И одной из них стала потребность «догнать и перегнать» великолепную Аурику. Наташа поверила, что это возможно, в тот самый день, когда мать распекала у нее на глазах нерадивого студента Снежкина, потерявшего дар речи от одного-единственного взгляда на нее, старшую дочь доцента Одобеску. «Я ничуть не хуже!» – ликовало тогда девичье сердце и подталкивало свою обладательницу к решительным действиям: красный диплом – аспирантура – кандидат наук – доцент – заведующая кафедрой – будущий доктор – проректор. Все так и выстраивалось, но радости от свершений не было. А когда Наташа поняла, что негласное соревнование не имеет смысла, оказалось слишком поздно. Невзирая на убедительность достигнутых результатов, не случилось главного: не сложилось женской жизни, то есть того, что делало опыт ее матери гораздо более ценным, чем ее собственный.
И не то чтобы Наталья Михайловна Коротич не нравилась мужчинам. Нравилась, но каким-то «не тем». Не того роста, не того веса, и главное – не той порядочности, о которой она так много слышала из уст своего любимого Ге и обеспокоенного женской судьбой дочери Михаила Кондратьевича.
– Чего им из-под нее надо?! – метал молнии Георгий Константинович и гневно потрясал кулаками. – Московскую прописку? Квартиру?
– Ты не поверишь, – сокрушалась Аурика, единственная, пожалуй, кто еще мог хоть как-то объяснить происходящее. – Им не нужна ни московская прописка, ни квартира, им нужна ее голова.
– Чего?! – пугался старший Одобеску.
– Голова, – спокойно повторяла Аурика Георгиевна и, отодвинув от себя руку в перстнях, какое-то время их рассматривала, а потом грустно сообщала: – У нее это называется «научный патронаж». А на самом деле, ее, как дуру, используют разного рода молодые и хваткие аспиранты вкупе с не менее пронырливыми ассистентами. И ведь, что самое печальное, – Аурика вздохнула, – наша Наташка искренне верит, что за всем этим скрывается какой-то скрытый смысл, наподобие тайной влюбленности. Она же изначально хорошо думает о людях. Забыл, чью фамилию она носит? Но самое ужасное – не в этом…
– А в чем?
– В том, что сама Наташка настолько уверовала в свою просветительскую миссию, что как только из ее жизни испаряется очередной протеже, она тут же находит другого. Причем сама. Погрустит-погрустит, а потом слышу: «Такой талантливый парень. Немного несобранный, но это легко можно исправить». И – понеслось. Лыко-мочало, начинай сначала. «Можно Наталью Михайловну?» Конечно, можно. Вот она, ваша Наталья Михайловна! Вместо того, чтобы над собственной докторской работать, с вами очередную кандидатскую состряпает. Мишке говорю – тот только плечами пожимает. «По-моему, это нормально!» – передразнила она мужа. – А, по-моему, не нормально! Ненормально, когда молодая и красивая женщина вместо того, чтобы принимать ухаживания в свой адрес, ухаживает за мужчинами сама. Она даже их в театр водит! Чтобы духовно развивались. Я даже сомневаться начала: уж не попахивает ли это преподавательским грешком. Знаешь, бывает такое, когда преподавательницы студентами увлекаются. Но те – понятно, с какой целью. Женские судьбы разные, иногда на безрыбье и рак – рыба. Лишь бы что-то в штанах имелось. А потом вижу: нет! Не в этом дело.
– А в чем? – покраснев, произнес Георгий Константинович, неприятно пораженный откровенностью Аурики.
– Я не знаю, – простонала она и скрестила руки на груди, словно пыталась закрыться от отцовского вопроса. – Она ведет себя с ними, как самоотверженная мать. Сначала бескорыстно помогает, потом окружает вниманием и заботой, а через какое-то время мальчик привыкает к мысли о том, что ему без нее никуда. И правда ведь никуда. И ночами сидит, и работы их правит, что-то сама дописывает. Разве плохо? А как только дело сделано, они из дома вон. В настоящую, взрослую жизнь. Оттолкнутся от нее ножками, и в счастливое будущее. Я ей говорю: «И тебе это надо? За спасибо?» А она мне, представляешь: «Я мзду не беру! Что ж делать, коли рожей не вышла и никто замуж не зовет?!» И не позовет! Мужики таких дур за версту чуют, чтоб и «коня на скаку… и в горящую избу». Но на таких не женятся. Таких либо в любовницах держат, чтобы было кому на жену пожаловаться, либо – в товарищах. А время-то уходит!
– Ну, может быть, не все так плохо? – занимался самоуспокоением Георгий Константинович, порядком уставший от несправедливости жизни. Так он называл странное несоответствие своих дедовских ожиданий реальному положению вещей. С его точки зрения, Наташа заслуживала совершенно иной женской участи. «Не понимаю!» – то и дело восклицал он, расхаживая по комнате, и звал Глашу, как будто та могла ему что-то объяснить. «Почему?!» – тиранил он одним и тем же вопросом бедную женщину. «А кто ж знает? – философски изрекала изрядно постаревшая помощница, и голос ее звучал старчески неровно. – Может, сглазил кто? Цыганка, например, какая-нибудь».
– Ерунда! – сердился Георгий Константинович, но слова Глаши ранили его, и потом он долго над ними думал, стесняясь признаться самому себе в том, что все сильнее и сильнее хочется ему поверить в это нелогичное предположение. Не справляясь с тревогой, барон Одобеску даже покрикивал на Глашу, а потом извинялся и, как ребенок, обещал: «Больше не буду». Но мысль о сглазе, цыганках и нечистой силе продолжала неприятно волновать его. И, наведя справки у знающих людей, Георгий Константинович отправился по выученному наизусть адресу в район Лефортово – в сопровождении Глаши, по такому случаю наотрез отказавшейся ждать хозяина дома.
Строение за номером три нашли быстро. Старое. Судя по всему – под снос. «В чем только душа держится?» – сказала Глаша, словно о человеке, и смело отворила входную дверь. В подъезде, вплоть до второго этажа, стояли люди с обреченными и усталыми лицами. Некоторые стояли молча, некоторые оживленно беседовали, но старались это делать как можно тише, вполголоса, поэтому в подъезде и стоял еле различимый гул.
Не искушенные в вопросах хождения по знахарям и гадалкам Георгий Константинович и Глаша попробовали было подняться по лестнице, но тут же были остановлены наиболее ответственными членами очереди:
– Куда?!
– Квартира девять, – автоматически подчинившись атмосфере таинственности, прошептал барон Одобеску.
– Всем – девять, – сделала страшные глаза стоявшая в конце очереди женщина и тут же посоветовала: – Записываться надо было.
– У кого? – почтительно поинтересовался Георгий Константинович, испуганно озираясь по сторонам.
– Ни у кого, – прошипела стоящая на последней ступеньке женщина вполне респектабельного вида с ультрамодной велюровой чалмой на голове. – Вот, – она протянула ладонь, на которой был написан порядковый номер.
– Тридцать два, – еле разобрал Одобеску и вопросительно посмотрел на даму. – Как много!
– Да что вы! – чуть громче, чем полагается, воскликнула она и тут же прижала ладонь к губам. – Обычно бывает гораздо больше. К ней (она показала глазами на выстроившуюся на второй этаж очередь) со всего Союза едут. Особенно, если пропал кто, она сразу говорит, искать или нет. Некоторые надеются: вдруг жив человек, а Манефа на фотографию взглянет и сразу скажет: «Нет его». Или, наоборот: думают, умер, сгинул, а она: «Нет, не умер. Жив-здоров, в тюрьме сидит».
– Так прямо и говорит? – не выдержав, вмешалась в разговор Глаша, сраженная наповал словами женщины про тюрьму.
– Еще, говорят, она краденое находит, на завистников показывает, в делах помогает и даже (дама в чалме нагнулась к самому уху Георгия Константиновича) глаз снимает. Вы сюда зачем?