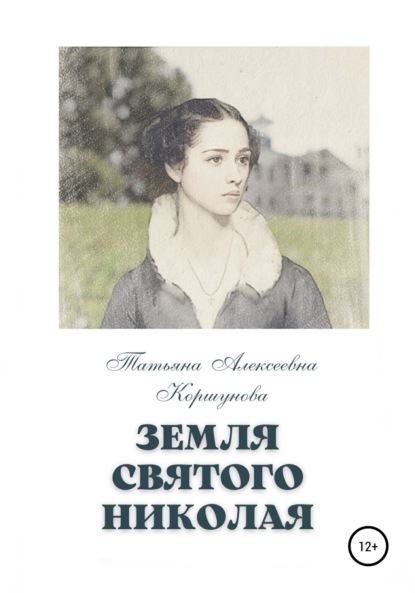По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля святого Николая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Евдокия говорила с ним молчанием.
Глава II
В Превернино расцветала весна. Жарче и жарче грело апрельское солнце с каждым днём, а утро оставалось свежим и прохладным. Чистые ручейки струились с горок, омывали теплеющую землю, уносили жёлтую прошлогоднюю траву. Почки в лесу распускались на глазах, и радостные птицы пели по-весеннему на разные голоса.
В лёгкой ночной сорочке, с распущенными волосами Ольга стояла на балконе, смотрела на светлеющий горизонт. Чистое небо встречалось с самим собой в её глазах.
– Ты думаешь о Первине? – Евдокия вошла к ней в спальню. Вдохнула утреннюю свежесть лесного сквозняка – и подставила лицо млечным лучам зари.
– Тоскливо и больно, – сестра куснула нижнюю губу. – Скоро Володя приедет. Какие вести он нам привезёт? Кто станет хозяином нашего Первина?..
Из дальнего леса зазвучали переливы русской свирели. На щеках Ольги появились ямочки:
– Это Матвей!
С весенним теплом каждое утро семнадцатилетний юноша вставал на рассвете, садился в лесу под деревом или на поваленный ствол и играл на свирели. Соседи называли его «безобидный вольнодумец»: молодой Бакшеев презирал городскую моду и носил русскую рубашку-вышиванку. Но такое вольнодумство его годам было простительно. Он напоминал лесного языческого бога или Леля. Волосы золотисто-русые вихрились на висках и надо лбом, но причёске поддавались. Густые брови тоже гнулись непослушно. Но в правильных, прямых линиях славянского носа и мягких губ угадывался некрестьянский сын.
Ольга и Матвей родились в один год, в один месяц, с разницей в три дня – и росли вместе.
В малиновом платье, с заплетённой от темени светлой косой, Ольга бежала по весеннему лугу, подхватывая подол и перепрыгивая ручейки. Приблизилась к опушке – и тоненький голосок свирели замолк. Ноги её остановились – забегали глаза. Из парной земли пробивалась свежая трава; маленькие, солнечно-жёлтые цветки мать-и-мачехи и синевато-голубая пролеска вблизи молодого дуба живили едва пробудившийся лес. Вот и Матвей явился – с огромным пушистым букетом вербы.
– Это для вас, Ольга! – он пал на колени с молодецкой улыбкой.
Они вместе пошли вдоль ручья-канавки по мягкой, бугристой, вздутой вешними водами земле. Прогулка не ладилась: не улыбалось, не ворковалось.
– Что с тобою, Ольга? Зимой мы так редко встречались, и я так давно не видел твоей улыбки. Ты знаешь, как я люблю твою улыбку. Почему ты грустишь?
– Стоит ли говорить тебе об этом, Матвей?
– Расскажи, я всё для тебя сделаю! – он заглянул ей в лицо. Чуть набухшие веки заставляли его синие глаза смотреть как-то виновато или даже жалобно.
Она потупилась:
– Мы едва не разорились.
– Не грусти, Ольга! Поверь – я буду любить тебя, что бы ни случилось. Да хоть и без приданого! Не тревожься: я и мой папенька… мы поможем вашей семье!
– Не надобно уже помогать, – она мотнула головой. Всхлипнула и зажала ладошкой глаза.
Матвей сморщил брови, приоткрыл губы. Развёл руки – и укрыл её в щедрых объятиях:
– Оленька, только не плачь! Я… я прошу тебя… Ольга, ты же знаешь… я не переношу девичьих слёз.
Она оперлась о его руку и села на сваленный ствол.
– Владимир уехал в Петербург продавать дедушкино имение.
Матвей гладил её шёлковые пуговички на спине:
– Я понимаю твои страдания, Ольга. Мне было бы так же больно, ежели бы я потерял наше Бакшеево. Я просто… не знаю, что сказать тебе…
Светлая головка приклонилась к его льняному рукаву.
– С тобою так хорошо, Матвей. Ты словно солнышко. Когда я рядом с тобой – и о горестях думать не хочется. Прошу тебя, поиграй для меня. Что-нибудь грустное…
Элегия свирели заструилась по лесу, завиваясь в диких стволах, зазвенела небесными отзвуками. Прижимая к губам черёмуховый срез, Матвей взглядывал то на свежее небо и макушки голых осин, то в лицо Ольге. Её маленький рот, губки полумесяцем так и манили – как малина в сахаре.
Последнюю ноту повторило эхо – и она вскочила со ствола к другу, обняла его за шею, прижалась прохладной щекой.
– Как бы мне хотелось, Матвей, быть с тобою и смотреть на тебя вечно, когда ты играешь для меня!
– Так не уходи.
Он взял её за руку, и они пошли опушкой до Превернина. Двухэтажный белый дом с колоннами утопал в змеящихся яблоневых ветках.
– Должно быть, Владимир уже вернулся, – Ольга насупила тонкие брови. – Мне надобно домой.
– Завтра я снова жду тебя, – Матвей тронул музыкальным пальцем её щёчку. – Милая Оленька, обещай мне, что не станешь грустить.
– Я буду думать о тебе – и это поможет мне всё принять.
Она поцеловала его запястье под вышитой славянскими крестами манжетой – и пошла к дому.
***
В кабинет Фёдора Николаевича постучали. Дверь боязливо отворилась, и заглянул Владимир с чёрной шкатулкой в руке. Отец вытянул раздвоённый ложбинкой подбородок:
– Что?
– Всё.
На стол хлопнулась пачка ассигнаций. Вторая, третья. Четвёртая! Фёдор Николаевич перестал морозить глазами мрачное лицо сына – и посмотрел на серые кирпичики.
– Владимир! И всё ассигнациями? Сколько же здесь?
– Сто двадцать пять тысяч.
– Это что?..
– Задаток. Вам остаётся купчую составить.
– Володя! – отец поднялся, обошёл стол и обнял сына. – За такие деньги!.. Как ты смог?..
Словно деревянного истукана обнял.
– А сколько, по-вашему, должно стоить дедушкино имение?
Фёдор Николаевич порвал бумажный ободок верхней пачки и стал перелистывать ассигнации – новыми серыми двухсотками. Владимир стоял напротив, скрестив руки на груди.