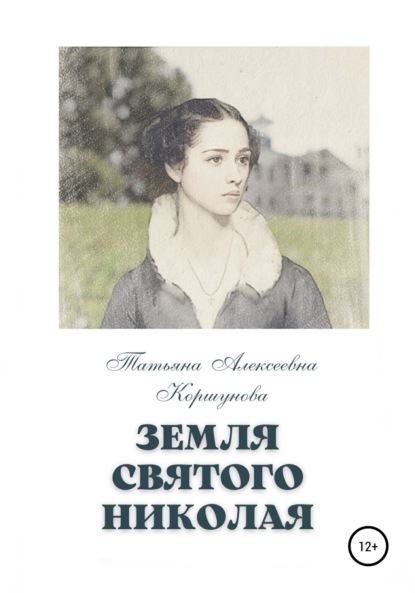По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Земля святого Николая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Задаток, говоришь… И кто же дал за наше имение такую сумму?
– Некий граф. Будрейский.
– Будрейский? Не слышал… Твой знакомый?
– Нас представили друг другу в доме графини Строгановой. Этот Будрейский узнавал о покупке имения подальше от столицы. Раньше я его не видел. Или познакомиться не доводилось. Вы наказали не продешевить – а он предложил сто шестьдесят тысяч.
– Ай да сын! Впервые я тебя хвалю.
Было б за что, папенька…
Теперь надлежало как-то оповестить сестёр. Они ждали в гостиной. Ольга на диване пачкала маленькие ноздри вербной пыльцой букета.
– Наше Первино покупает граф Будрейский, – Владимир переступил порог, глядя на нос своей замшевой туфли.
Евдокия, лицом к окну, в тёмном майоликово-синем платье, накручивала на палец кисточку чёрной кружевной косынки:
– Какая разница, кто. Кто бы ни был – я заранее ненавижу его.
– Когда он приезжает? – спросила Ольга.
– Обещался… одиннадцатого мая.
– Одиннадцатого – мая! – Евдокия повернулась от окна. – В день смерти дедушки!
Она выбежала из комнаты. За нею – сестра. В спальных покоях хлопнула одна дверь, другая. И гостиная опустела – с букетом вербы на гобеленовом диване.
Будто второй раз похоронили дедушку. В утешение оставалось полмесяца прощания с Первином.
Глава III
Что это был за день! Одиннадцатое мая. Этот день шесть лет тому назад отнял дедушку, а теперь собирался выкорчевать последнюю память о нём. В этот день лучше было не просыпаться.
С тех пор как дедушки не стало, Евдокия привыкла ходить в Первино одна. Летом гуляла в парке или сидела на террасе. Зимой отпирала дом и бродила по безлюдным комнатам. В библиотеке перелистывала старые книги, которые вьюжными днями дедушка читал ей, Владимиру и Ольге в гостиной. И вот теперь – это чужая земля. Чужой дом. Но как принять это, когда знаешь там каждую травинку? Знаешь, что на лужке от сада к речке любит расти гусиная лапка, а под яблонями у ручья – манжетка. Теперь этих яблонь рукой не коснуться, на камень у речки не ступить. Мир стал тесным, своего-родного осталось слишком мало – а на дедушкин берег нельзя. Но так хотелось пойти туда!
Зачем?
Проститься. Последний раз.
Прикрывая хлопчатым платком декольте василькового платья, Евдокия шла по холмистому лугу. Под ногами клонил головки гравилат, пряча в бордовых лепестках пушистую сердцевинку. По молодой траве, словно капли неба, рассеялись цветки вероники. И повсюду слепили глаза одуванчики, пахнущие мёдом, мохнатым ковром лежащие на сочных стеблях и листьях; а к горизонту с гребешком весеннего леса поднимались холмы, словно посыпанные жёлтой пыльцой. Майское солнце припекало чёрные пуговки на лифе платья. Ветерок тянул пышные облака на север. При такой же погоде умер дедушка… Закуковала кукушка, трава закачалась, зашепталась.
Тропинка загибалась в перелесок. От земли под огромными лопухами веяло прохладой. Раздвинулись ветки бузины со сливочными гроздьями мелких цветков – и под горой показался деревянный мостик с перилами, а за виляющим руслом чистой речки – дедушкины поля, луга, берёзовые и липовые рощи. В жёлтых купальницах журчал ручей.
За аллеей цветущей сирени высился знакомый бельведер.
Евдокия перешла мостик, перепрыгнув последнюю досочку: с неё всегда соскальзывала нога. Будто и не случилось здесь ничего нового, всё так и оставалось по-дедушкиному.
А вдруг это был сон – и никто не приехал?
Но нет… Подходя к крыльцу по ровной каменной дорожке, Евдокия увидела незнакомые экипажи. Привязанные лошади фыркали, отгоняли хвостом назойливых мух. Люди выгружали сундуки, не замечая её. Её – внучку хозяина дома! Дома, где она родилась! Четыре каменные ступени: по ним в жару всегда бегали ящерицы. Входные двери открыты. В сенях – никого.
Просторная передняя комната. Как и при дедушке, синяя ковровая дорожка вела в гостиную к белым закрытым дверям. У стен – бронзовые канделябры на белых мраморных выступах. Между ними – два портрета: Екатерины II и Суворова. Деревянный сервант с глиняными вазами: эту посуду ваяли крестьяне и дарили дедушке по праздникам. Дедушка любил подходить к серванту… Теперь – чужому!
– Что угодно?
Евдокия вздрогнула. Повернулась. В дверях гостиной стоял плечистый верзила в зелёном суконном сюртуке, с рыжеватыми вихрами, моржовыми усами и бородой, как у царя Московского Феодора Иоанновича. Наглые глаза лисьего цвета смотрели так, будто сейчас пришибёт. Или проклянёт. Или соврёт.
– Мне надобно увидеть графа Будрейского.
– Граф Будрейский, Арсений Дмитриевич – ваш покорный слуга, – верзила выгнул брови буквой S.
– Это – вы?..
Евдокия не смогла больше сказать ни слова. Слёзы начали душить и выкатились по щекам. Новый хозяин дедушкиного имения – раскольник? Язычник-старовер – или того хуже?..
– Что там случилось? – послышался сзади другой голос. Приятный, молодой – и слишком мягкий для чужого человека.
Из-за могучей спины показался стройный молодой человек среднего роста в белой рубашке с дутыми рукавами и сером жилете. С короткими тёмно-каштановыми волосами, по моде начёсанными на висках. Лицо – худое. Нос римский с узкими ноздрями. Дымчатый шейный платок с узелком, без булавки, трижды обвивал его длинную шею под накрахмаленным воротником.
Верзила поклонился:
– Арсений Дмитрич, простите… Господь с вами – пошутил я! Вот он – перед вами, граф настоящий…
– Что вам угодно? – обратился к Евдокии настоящий граф, по-балтийски сужая «о», и близоруко прищурил блестящие серые глаза.
Она вытянула уголки губ в вежливую улыбку. И подняла голову:
– Я княжна Евдокия Фёдоровна Превернинская – внучка бывшего хозяина имения…
– Что ж вы, Степан Никитич, княжну обидели? – граф повернулся к бородатому.
Наглые лисьи глаза взглянули на неё:
– Вы меня простите. Я сам барышню в вас не признал. Гляжу: платье простое, платочек ситцевый, косицы. И ни к чему, что крест и серьги золотые…
– Вы не обидели меня. Но я хотела…
– Степан Никитич. Вы не нужны, – тихо сказал граф.
Бородатый вышел в сени. У порога оглянулся на Евдокию через плечо.
– Я хотела просить вас… Не снимайте портрет дедушки со стены в гостиной.
Её болотно-карие глаза заблестели. Подушечки длинных пальцев придавили слезинку на щеке, как комара.
– Я обещаю вам, – сказал Будрейский.
– Благодарю. Прощайте.