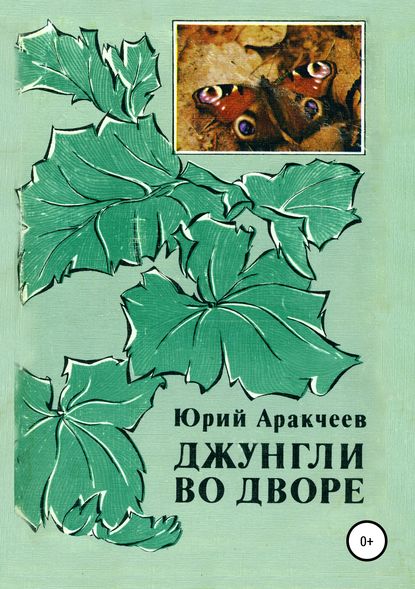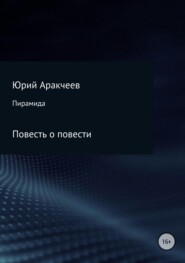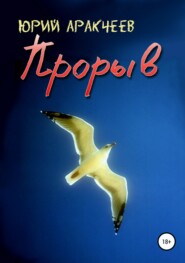По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Джунгли во дворе
Автор
Год написания книги
1979
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как бы то ни было, мы с собакой прошли немного по краю оврага, а затем спустились к началу пруда. В самом устье речушки здесь густо стояла осока, а рядом кустились низенькие заросли буроватой череды с невзрачными желтыми цветочками. А в общем это был вполне подходящий микромир, в котором должны обитать какие-нибудь интересные существа.
И верно. Во-первых, очень интересно было наблюдать за крупными, глазастыми, удивительно нахальными мухами рыжего цвета. Эти мухи не только очень маневренно и быстро летали, но еще и обладали злорадством. Как я вскоре сообразил, добычей рыжих были маленькие, исключительно симпатичные черненькие мушки – складненькие, пропорционально сложенные, с радужно отсвечивающими на солнце крылышками. Все в этих черненьких вызывало симпатию: и как они сидели, широко расставив микроскопические лапки, и как постоянно чистили свое и без того чистое, лакированное тельце и короткие усики, и круглую, словно эбонитовую, головку, и отливающие зеленым, красным и синим прозрачные крылья, В своем стремлении к чистоте и в доверчивости они не обращали внимания на то, как буквально в двух сантиметрах от них на тот же самый лист осоки приземлялся огромный рыжий бандит. Большеголовый, покрытый торчащей щетиной, весь какой-то нескладный и неопрятный, он нахально поводил круглыми желтыми глазами, и… прощай, симпатичная мошка! Вот она уже грубо схвачена, смята рыжим разбойником, а вот уже летят вниз, на землю, бесформенные хитиновые останки и медленно планируют невесомые крылышки. Да… И вот ведь что больше всего меня возмущало. Если разбойник так уж создан, что не может не охотиться на черных мушек, то и пусть себе охотится. Зачем же издеваться? Ведь с первого взгляда ясно, что и быстроты и маневренности рыжему вполне достаточно для того, чтобы сразу наброситься на черненькую, без всяких штучек. Так нет же! Он нарочно садится рядом со своей жертвой, чтобы садистски насладиться зрелищем ее последних минут.
Во-вторых, я с удовольствием снял ручейника, сложившего крылья домиком на листе осоки. В-третьих, на невзрачных цветочках череды вдруг сверкнул красновато-золотой огонек – бабочка огненный червонец, или огненница.
И пока я возмущался поведением рыжего садиста, а потом снимал ручейника, искал еще чего-нибудь, наконец, увидел огненницу и начал охотиться за ней – все это время собака держалась поблизости. Нет, она не путалась у меня под ногами, не вспугивала тех, за кем я охотился. Ни скулежом, ни лаем, ни какими-нибудь особенными укоряющими взглядами не намекала мне, что хватит, мол, заниматься чепухой, пойдем дальше. Она даже не легла с красноречивым выражением морды и безнадежно обвисшими от скуки ушами. Она весело бегала как раз на таком расстоянии, какое требовалось для того, чтобы не мешать, потом искала что-то в кустах, потом непринужденно прилегла отдохнуть, тоже на прекрасно рассчитанном расстоянии – так, чтобы огненницу, за которой я начал охотиться, не вспугнуть. И она не сделала даже попытки глупо «помочь» мне в моей охоте. Ну ничего, ничего в ее поведении не было такого, что каким-то образом тяготило бы меня.
Тут надо сказать, что к собакам у меня отношение особое. Я их, конечно, люблю. Но вот уважаю, должен признаться, далеко не всегда. Кто, например, вызывает мое безоговорочное уважение – так это волк. Волк – личность, он всегда сам за себя постоит и ответит. Не его вина, что для того, чтобы жить, ему нужно убивать. Да, бывают случаи, когда волки перерезают гораздо больше овец в стаде, чем могут взять, и на первый взгляд кажется, что это ужасно. Однако кудрявые блеющие животные, которым и в голову не приходит постоять за себя, не вызывают у меня особенного сочувствия. Мне иногда кажется, что волки просто-напросто мстят овцам за утрату ими чувства собственного достоинства. Скажете: овцам нечем защищаться, у них нет волчьих зубов. А копыта? Известны же многочисленные случаи, когда, например, слабенькие скворцы, дрозды и даже ласточки отгоняли от своих гнезд не только сорок и ворон, но и ястребов, соколов. Так что если сравнивать собаку и волка, то… Впрочем, о волках много написано, особенно в последнее время, и не случаен, наверное, этот интерес к умеющему за себя постоять, ценящему свою свободу животному,
Согласитесь, что рабство, в какой бы форме оно ни было, – отвратительная вещь. Оно унижает обоих – и раба, и хозяина. Может быть, как раз поэтому и опасна чрезмерная привязанность. Ведь так часто привязанность перерастает в подобие рабства, когда один из двоих незаметно и потихонечку теряет собственное лицо.
Вот за это я не всегда уважаю собак.
Прошу понять меня правильно. Я знаю о сенбернарах, спасающих людей, засыпанных снежной лавиной. Или о собаках-поводырях, проявляющих к своему хозяину высшую степень сочувствия и доброты. Это настоящие друзья, жертвующие собой ради хозяина-друга, а не ради хозяина-господина. Но я говорю не о них. Я говорю о тех, которые не имеют своего лица. А таких, увы, много. К сожалению, само вечно подчиненное и бесправное положение собаки часто и лишает ее индивидуальности. Она привыкает к палке, поводку и ошейнику, принимает их как должное, ей и в голову не приходит в чем-нибудь усомниться. Она как будто бы даже любит их.
Собаки в своем положении не виноваты, скажут некоторые. Возможно. Но ведь многие собаки, даже если их освободить, уже не могут обойтись без палки, поводка и ошейника. Заслуживают ли они уважения? Говорят, когда собаке делают вивисекцию, она лижет руки своему мучителю. Ее положению не позавидуешь. Но все-таки, может быть, лучше, если бы не лизала?
А первый признак потерянной индивидуальности – нудная, надоедливая, не уважающая ни вас, ни саму себя навязчивость. Ну, скажите, разве вы не встречали таких собак? Они не могут без вас обойтись ни минуты не потому, что любят. Им просто скучно, невыразимо скучно наедине с собой…
И еще один очень серьезный упрек. Слишком привязчивая, слишком теряющая свое лицо собака никогда не бывает по-настоящему верной. Когда ваше положение плохо, то стоит кому-то поманить ее, пообещав большие выгоды, как она… Ах, что там говорить! Лучше уж иметь дело с волком – по крайней мере знаешь, чего от него можно ждать.
Ну вот, а у этой собаки не было навязчивости. Или я еще не успел как следует разглядеть?
Огненницу я сфотографировал. Кокетливая бабочка! Садится на цветок и крылья раскрывает. Только я, подойдя на должное расстояние, начинаю наклоняться и уже вижу в видоискателе красновато-оранжевое пятно, которое постепенно приобретает очертания бабочки, как она в самый последний момент грациозно взлетает. И не улетает ведь совсем. В двух шагах садится и крылышки то сложит, то распахнет, а то еще как будто подрагивает ими. Но все-таки характер был у нее хотя и женский, однако терпимый. В меру помучив, она все же дала себя сфотографировать. Об отсутствии индивидуальности у огненницы говорить не приходится…
Делать на этом месте больше нечего было. Я поднялся чуть выше по оврагу, перебрался через ручей с намерением выйти на Русское поле и идти опять по краю его, по опушке леса. Собака деловито и опять же как-то весело, радостно – вот в чем суть! – бежала за мной. Бежала довольно близко, когда я шел по оврагу и перебирался через ручей, а когда стал взбираться по противоположному склону, она лихо опередила меня, как это часто делают собаки, и скрылась наверху. А я увидел немного в стороне, на склоне, кустики какого-то растения и, подумав, что там что-нибудь интересное может быть, добрался до него. И страшно обрадовался, потому что он весь был усыпан голубовато-серыми ложногусеницами пилильщика. А ложногусеницы почти так же эффектны и пластичны, как настоящие. Они – моя слабость.
Только я приспособился фотографировать, как вдруг услышал, что кто-то негромко и жалобно скулит. Что же вы думаете? Собака, поднявшись первой, подождала, а когда я так и не появился, она вернулась и, не увидев меня на тропинке – ведь я в три погибели склонился над ложногусеницами, – решила, что я ее бросил. Как только она разглядела меня у куста на склоне, тотчас же успокоилась и опять бегала поблизости как ни в чем не бывало. Ну не трогательная ли собака!
Дружок – так окрестил я ее тотчас.
– Ну что же ты испугался, Дружок? Что же ты, дурачок, испугался!..
Приближалось время обеда.
Надо сказать, что это был один из последних моих приездов в лесхозовский сарайчик. А потому почти никакой еды там не оставалось, была только та, что я привез с собой из Москвы и теперь нес в сумке. И еды-то, честно говоря, было кот наплакал. Я ведь собирался непоздно возвратиться в Москву и там обедать. Так что не обеда время приближалось для меня, а легкой закуски. И вот, стоило зашелестеть бумагой, разворачивая хлеб и сосиски, как Дружок опрометью подбежал ко мне и от нетерпения слегка зарычал. Я бросил ему сосиску – она с быстротой звука исчезла, и, не в силах сдержать нетерпение, переминаясь с ноги на ногу и горящими глазами глядя на мои руки, он зарычал опять. Мне это не понравилось. Я даже подумал, что при всем благородстве, которое он уже показал, не мешая фотографировать, он все же не настолько благороден, чтобы не смотреть в глаза, вымаливая подачку. Вот где проявился неприятный инстинкт!
– Ты что?! – сказал я, раздосадованный. – Теперь уж и меня готов съесть?
Но и это мой Дружок понял. И взял себя в руки. Схватив полсосиски, которые я ему бросил после своих слов, он уже не вел себя так невоздержанно. Сделав явное усилие над собой, он слегка отбежал и постарался опять изобразить на своей морде выражение расположенности и привета. Хотя насколько он был голоден, можно было понять по тому, с какой молниеносной скоростью он проглотил и хлеб, который я ему бросил. И последнюю сосиску.
Мы немного походили по опушке, потом отдохнули, лежа на краю Русского поля в зарослях великолепных ромашек. И здесь Дружок вел себя с достоинством. Единственное, в чем он позволил себе собезьянничать с меня, – это тоже улечься и даже спать. Но это было, как я понял теперь, не обезьянничанье, а солидарность. Видимо, к тому же он действительно захотел поспать. Все-таки время от времени он поднимал голову и смотрел, не скрылся ли я от него опять…
Именно здесь, лежа среди ромашек, глядя на Дружка и размышляя, я понял: ужасно люблю таких вот собак. С такими и начинаешь по-настоящему понимать: волк все же не то. Волк – индивидуалист, эгоцентрик и хищник, Разбойник, словом. С ним все же по-настоящему не договоришься. А вот такой Дружок – это да! С ним ничего не страшно, с ним жить да жить. Словом, он настоящий друг.
Пора было, однако, возвращаться в сарайчик, а затем и в Москву. Когда мы шли по деревне, я спрашивал у встречных, не знают ли, чья собака. Никто не знал. Что делать? Надо было куда-то Дружка пристроить, куда-то Дружка при…
И тут только я осознал, что происходит. Я собираюсь избавиться от Дружка. О господи. Но что же, но что же делать?
Взять его в Москву с собой? Но что же с ним будет в Москве? Что он будет делать во время моих частых отъездов? Не могу же я брать его с собой в командировки, а дома присматривать некому, я один…
Что же делать? Куда же все-таки Дружка девать?
– Хотите? – спросил я кого-то в деревне.
– Да что вы! У нас своих хватает. А собака хорошая…
– Да вот именно что хорошая.
Пришли к сарайчику.
И здесь мой Дружок проявил тактичность – не пошел со мной без приглашения внутрь. Я лихорадочно искал, чем бы его накормить. Нашел сахар – не ест, конфеты – не ест. Правда, был мясной суп десятидневной давности, я выловил оставшийся там маленький кусочек мяса и дал Дружку, а суп вылил. Вылил потому, что не мог кормить благородного Дружка старым и явно прокисшим супом, вылил из уважения к нему. А потом видел, как он вылизывает землю в том самом месте…
Приближалось время автобуса, а надо было Дружка накормить и вообще что-то придумать. Но что, господи, что? Была и еще одна подробность. Пока я собирал вещи, проходил мимо какой-то подвыпивший мужичок, и очень уж захотелось ему Дружка погладить. Ничего не вышло, как он ни свистел и ни чмокал. Мне этот мужичок тоже почему-то не понравился с первого взгляда.
А потом я повел Дружка к жившему по соседству леснику Николаю Сергеевичу, хорошему человеку, с тем, чтобы попросить у него чего-нибудь для Дружка поесть и вообще посоветоваться, куда же его все-таки пристроить. И Николая Сергеевича мой друг сразу же признал, до того даже, как тот начал его кормить.
Надо было торопиться. Николай Сергеевич вспомнил, что есть в лесхозе какой-то охотник без собаки, вот ему Дружка и надо бы отдать. Он пошел за охотником, а мы вернулись в сарайчик. Я принялся укладывать оставшиеся вещи в рюкзак. Дружок уже освоился, исследовал ближайшие окрестности и, похоже, чувствовал себя как дома. Похоже, его ничуть не смутило то, что у меня не приличный дом, а всего лишь сарайчик, во всяком случае если и смутило, то он этого не показывал. Ему нравилось у меня, это было ясно.
Пришел Николай Сергеевич вместе с охотником, мужчиной средних лет. Они стали звать Дружка.
Благородный пес вежливо помахивал хвостом, но к ним не приближался и подойти к себе близко не позволял. Тогда я вышел, позвал его – он подбежал ко мне тотчас, – и я сказал, чтобы он шел с ними. Дружок приветливо смотрел на меня, понимал то, что я говорю, но с ними идти не хотел. Вернее, теперь я думаю, что тогда он как раз не все понимал. То, что нужно почему-то от меня уходить, наверное, просто не укладывалось у него в голове. Может быть, он даже решил, что у меня такая манера шутить. Николай Сергеевич что-то вытащил из кармана, показал ему. Дружок помахал хвостом, но не двинулся с места.
Тогда я позорно скрылся в сарай. Я позорно скрылся в сарае и, прикрыв за собой дверь, наблюдал в узкую щелку, как Дружок, ничуть не обидевшись на то, что я его с собой не пригласил, отбежал от гостей, считая, как видно, что раз хозяин их игнорирует, то и ему нет до них никакого дела.
Осталось несколько минут – едва успеть на автобус, и то если очень поторопиться. К тому же бессобачный охотник, как мне показалось, обиделся. Что делать? Я вышел из сарая.
– Дружок, – сказал я собаке, которая опять немедленно ко мне подбежала. – Дружок, иди. Иди, Дружок, слышишь! Иди с ними.
И, уверенно показав на Николая Сергеевича с охотником, я очень решительно вошел в сарай и опять закрыл за собой дверь. В щелку я видел, что собака в растерянности. Она начала понимать!
Тогда я приоткрыл дверь сарая, вышел и сказал еще раз:
– Иди, Дружок. Иди!
Я постарался вложить в свой голос холодность и решительность, отвергающую все сомнения.
Долгим, внимательным взглядом – немного удивленным, немного разочарованным, растерянным, грустным – почти человеческим взглядом! – он смотрел на меня.
Потом повернулся и побежал за безсобачным охотником.
А я…
Да, я успел тогда на автобус, выполнил какие-то свои обязательства перед чужими людьми. Перед какими – забыл. А Дружка помню.
И долго, наверное, буду помнить.
Да только ли его? Только ли он заслуживает памяти? Сколько же встречаем мы в жизни таких вот собак, которых не можем взять с собой и вынуждены оставить…