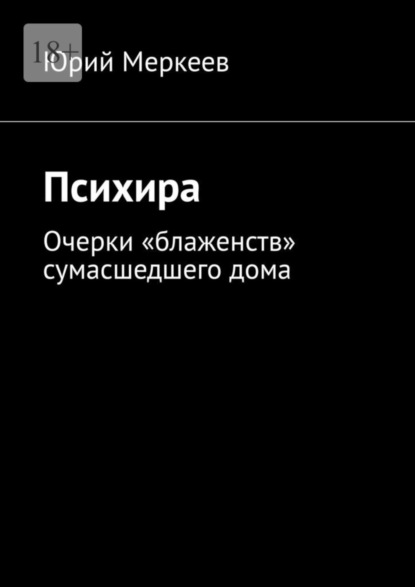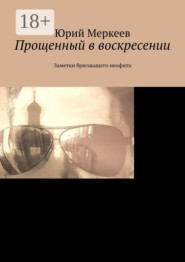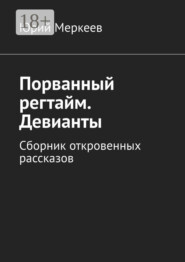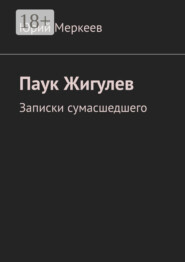По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Психира. Очерки «блаженств» сумасшедшего дома
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В замкнутых сообществах умеют давать людям емкие прозвища. Что в тюрьме, что в психиатрической больнице. Прозвище отражает суть человека. Такое бывает. Если кого-то называют Философом, ясно, что человек абстрактного ума. Крыса – мелкий вор у своих. Доктор – понятно, заслуживает авторитет своими познаниями медицины. Очко – ну, тут даже и без расшифровки ясно. И так далее.
К новому пациенту первого острого отделения сразу же прилипло прозвище Шестипалый Серафим. Не шестикрылый – это было бы очевидно, и с намеком на Небесное, но именно шестипалый. На самом деле Серафим он по крещению, а так он обычный Сева. Религиозный донельзя. И шестипалый буквально. На двух руках у него в общем счете шесть пальцев. На правой руке – пять, на левой – один обрубочный. И объясняется эта аномалия до дичи просто и до одури противоестественно. Дядя Сева в деревне стал известным после того, как в окно к нему залетела шаровая молния. Покружила возле обомлевшего мужчины, опалила ему бороду и, «подмигнув», удалилась сквозь стекло, расплавив ободки портала и окрасив окружность в бурый цвет. Узнав об этом, в деревне решили, что дядя Сева и в самом деле Серафим – пламенный то есть. Он и сам позабыл, каким именем его крестили в детстве. Народная молва вспомнила, и он стал героем – Серафимом Опаленным.
После шаровой молнии с Севой стали происходить странные вещи. Явился к нему во снах какой-то старик с клюкой и приказал ему уйти в монашеский скит и жить строго по Евангелию. Что значит строго по Евангелию? И зачем мужчине с трактором, семьей и хозяйством оставлять нажитое? Ответа разумного не было. Однако внутри Севы проросли сомнения в том, живет ли он правильно? Рано утром собрал поклажу и ушел в ближайший скит подворья мужского монастыря. Без благословения правящего архиерея Севу не приняли. Предложили пожить трудником, работником без зарплаты, но в отдельной сторожке. Серафим согласился и стал штудировать Евангелие самостоятельно. Долго размышлял, что означают слова Христа: «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый»?
Наконец, понял буквально: как только полезет рука за делом непристойным, лукавым и бессовестным, так ее нужно отрубить топором, чтобы не повадно было впредь грешить и войти в вечную жизнь не увечным душой.
Пропустил, однако, первую часть фразы: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Умышленно ли пропустил или не понял, что глаз идет впереди руки – сначала соблазняются зрением, а уж потом действием – рукой. Но и тут ревнитель веры был далек от истины. Потому что глаз-зрение запускается в действие образом мысли, то есть головой, мозгами. И если следовать буквальной логике, то, если помыслил дурное, необходимо разбежаться и треснуть свою дурную голову о какой-нибудь фонарный столб. Чтобы впредь неповадно было. И чтобы войти в вечность без головы, нежели с дурной головою. Поистине: научи дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет.
Через полгода одинокой жизни трудника на Севу напала тоска, и он решил развеяться в городе. Сел на автобус, приехал на площадь вечером, заглянул в питейное заведение, кутнул там, как следует, а ночью оказался в мрачном притоне в обнимку с девицей. Рука его бесстыдно поглаживала спящую «красавицу», и Сева бросился бежать от женщины как от огня, как от шаровой молнии – будь она не ладна. Опалит.
Вернулся в сторожку, долго не мог оправиться от произошедшего, смотрел то на свою безбожную руку, то на топор у поленницы, наконец, впал в какой-то мистический экстаз, схватил топор и оттяпал себе пальцы. Успел перетянуть запястье жгутом и потерял сознание.
Монахи нашли трудника Серафима лежащим в крови на земле. Вызвали Скорую помощь, пальцы пришивать назад было уже поздно. Поэтому Серафима выходили в хирургии, а потом, узнав подробности происшедшего, перевели в психиатрический стационар.
Шестипалый Серафим прижился при больничке, стал помогать в тех работах, где справлялся одной здоровой рукой. И ему позволили ночевать и харчеваться при стационаре. Приезжала жена с детьми, призывала вернуться. Обещал. В деревне его ждали. Не верили, что Серафим Опаленный, которого даже шаровая молния обошла стороной, мог спотыкнуться о какую-то городскую девицу. И к тому же совершить такое жестокосердие к своей руке. Уж, скорее, поверили бы в то, что у Серафима Опаленного крылья стали пробиваться за спиной – это да. Но такое малодушие и какой-то топор по руке – это уже слишком. Не похоже на героя.
Блогер
Не так давно в больницу доставили популярного блогера. Юноша решил покончить с собой не столько из-за наложенного на имущество ареста, сколько из-за невозможности пользоваться интернетом. Иначе говоря, что чуть не погубило его, то и стало спасением. Парадокс? Отнюдь. Большую часть жизни Роман сознательно провел под прицелом собственной видеокамеры. Привык.
Под камерой делал все – ел, пил, даже с девушкой обнимался. Кажется, допусти такую опцию, как подглядывание за душой, он и сюда бы впустил своих подписчиков, лишь бы платили деньги и давали просмотры.
Без Интернета впал в депрессию. Заплутали в голове суицидальные мысли. Но в самый критический момент вдруг понял, что роскошные кадры с самоуничтожением пройдут мимо жаждущих взглядов. На миру, говорят, и смерть красна. Это точно про Романа. Хотя, надо сказать, что психика у него была прочная и совершать суицид до момента запрета на интернет он не собирался.
Придумывал развлечения, пускал в эфир, был доволен жизнью и умножал довольство на капитал. Сетевая политэкономия.
Умножал, умножал, умножал. Но не делил-ся. Гонорары текли широкой рекой. Возникало желание сокрыть полный доход. А для этого нужно было всего лишь поделить сумму на множество мелких под чужими именами. И вывести в один карман. Схему ухода от налогов прикрыли, имущество арестовали, самого блогера отправили под домашний арест без права пользоваться интернетом. И тут открылись такие скелеты в шкафах, что впору вешаться. Но как вешаться без видеокамеры? Люди не поймут. И не будет яркой прощальной роли, которая соберет еще миллиона два лайков. Лайковая политэкономия.
Не просто въелась в кожу блогера. Стала его сутью. В первый день вынужденного поста от интернета и подписчиков он еще храбрился, показывал из окна дома журналистам на улице неприличные жесты, смеялся, кривлялся, покачивал головой. А потом исчез с радаров. И лишь спустя месяц затвора в отделении больницы рассказывал лечащему врачу, в какую крутую депрессию он попал без публики, и как тяжело ему давалось решение уйти из жизни. И как не смог он это реализовать, потому что рядом не было зрителей. Беда. А петля была уже готова.
Роман говорил о своей депрессии примерно следующее:
«Я и предположить не мог, как сильно завишу от интернета. Блогерство стало моей религией. Я был связан с виртуальным миром живой пуповиной. И когда мне перекрыли связь, я стал задыхаться. Ломка страшнее чем от веществ. Ходил из угла в угол. Страдал психологически. А это отражалось на физическом самочувствии. Ничего не хотелось. Только одного – снова предстать перед миллионной аудиторией. Пробовал читать. Через час швырял книгу. Пробовал заниматься гимнастикой. Выходило хлипко. Потому что не было аудитории. Хотел освоить какую-нибудь духовную практику. И тут не получалось без людей. Мне нужны зрители. Я это понял. Ничего не могу, если на меня никто не смотрит. Если меня не хвалят виртуальными лайками».
Когда я услышал это признание, вспомнил почему-то рассказ Чехова «Пари». Главный герой – юрист – оспаривал перед банкиром идею: любой срок в тюрьме гуманнее смертной казни. В горячке спора банкир предложил юристу за огромное вознаграждение доказать свою правоту и отсидеть взаперти пятнадцать лет. Банкир заверил, что если юрист выиграет, то получит два миллиона рублей. Молодой человек согласился и провел в одиночестве много лет. Перечитал множество книг, проштудировал горы религиозной и философской литературы. Стал мудрым, крепким физически, освоил гимнастику ума и тела. А в то время банкир оказался банкротом. Чтобы не возвращать деньги, решил убить юриста. Но юрист прервал пари и тайком покинул тюрьму. Он свободен. Деньги и страсти вокруг них для него теперь не главное.
Много лет в одиночестве… Среди книг, мудрецов и гениев. А жизнь за стенами вынужденной тюрьмы кипит страстями. Богатые превращаются в нищих, неимущие богатеют, люди гибнут за металл…
Если переложить историю чеховского героя на судьбу современного блогера Романа, то у юноши все впереди. Если, конечно, он преодолеет себя и пойдет по пути мудреца. Как думаете, преодолеет? Пойдет?
Писатель
Среди литературной богемы много людей, мягко говоря, странных. И это нормально. Творчески активный человек всегда немного инакомыслящий. Не в политическом, а в психоэмоциональном смысле.
У меня есть знакомый писатель Андрей Уточкин (фамилия изменена). Он пишет оригинальные рассказы. При этом совершеннейший музофоб. Боится музыки и бежит от нее, как от огня. Говорит: «Познавший гармонию музыки, будет убегать от шума. А познавший гармонию тишины, будет убегать от музыки».
Андрей музыки избегает. Боится ее. При этом в прошлом он заядлый меломан, ценитель прекрасных мелодий, фанат дискотек. У него замечательный слух. Может с трех нот угадать мелодию. Но теперь настолько дорожит внутренней и внешней тишиной, что проповедует полный отказ от слушания музыки. Рассуждает так:
«Когда вы впускаете в себя музыку, она начинает вами овладевать. Неприметно и мягко. Самое изощренное искусство соблазнения – музыкой. Вами обладают против вашей воли, точнее с полным безволием к сопротивлению. Потому что инструменты музыки – это воздействие на утонченные сферы мозга. Я познал тишину и теперь не отрекусь от нее. Напротив, когда я бываю расслаблен и случайно пускаю в себя чужой дух в виде очаровательной мелодии, я подчиняюсь ей. Я уже не совсем я. Слушаю какого-нибудь Джимми Хендрикса и рыдаю. Зачем? Мне разве горько? Нет. Музыка тащит меня за собой. Джимми Хендрикс увлекает меня в неизвестную страну плача. Мне это нужно? Слушаю Курта Кобейна, мне от тоски провалиться сквозь землю хочется. Вы скажете классика? Все тоже самое. Моцарт, Бах, Бетховен, Шуберт. Они отнимают меня у самого себя. За что же я должен быть им благодарен?
Есть, впрочем, и побочный эффект моей психологии – шум меня просто уничтожает. Убивает в прямом смысле. Если кто-нибудь из соседей берется за ремонт, будьте уверены, ваш покорный слуга уже в лесу. Только лес и спасает».
Он признался мне, что поссорился со своей девушкой, когда она застала его наедине с музыкой. Уточкин рыдал, как рыдают на исповеди в церкви. У него в тот момент была обнажена душа. А это хуже обнаженного тела. Когда девушка открыла своим ключом дверь его квартиры и услышала рыдания, тут же бросилась в комнату и увидела склонившегося над радиоприемником Андрея, который утирал рукавом слезы. Играл Карлос Сантана, латиноамериканский гитарист, который умеет выворачивать душу наизнанку. Зачем Андрей сразу не выключил звук и продолжил самоистязание мелодией, сказать было невозможно. Что-то, видимо, от мазохизма присутствовало в его безволии. И, потом, он был уверен, что никто не застанет его в таком позорном положении.
Девушка бросилась к нему на шею и просила рассказать, что случилось. А он холодно взглянул на нее и накричал. Худшее, что можно было придумать в эту минуту. Она застала его в обнажении души. Никому и никогда Андрей не позволял этого сделать. А ведь человек в такие мгновения становится противен сам себе.
Девушка обиделась и ушла.
Он потом пытался донести до нее суть произошедшего, звонил ей многократно, но это только усугубило пропасть между им, ненормальным, и ей, нормальной девушкой. Не поняла. При чем тут какой-то Карлос Сантана? Отговорки? Он принимает ее совсем за ду-ру? Если не хочешь встречаться, имей мужество честно и открыто об этом сказать. А то придумал какую-то утонченную музофобию и приплел латиноамериканского гитариста. До чего же любят писатели усложнять банальные вещи. Она ему показала, как надо говорить. «Да, пошел ты!» И все. Какие могут быть сложности?
Калька Кафки
Расстройство личности студента Димы из второго спокойного отделения мне понятно и без штампованных диагнозов. Пытается жить социальной жизнью, вступает в какие-то молодежные сообщества, умен, активен, сочиняет стихи и поет под гитару. Но в какой-то момент хочет исчезнуть из поля общественной жизни и убежать в себя. И убегает. Так глубоко, чтобы до него не могут докопаться даже самые близкие люди. «Для одних уход в себя – это бегство больного, для других – бегство от больных». Дима-студент совместил эти крайности. Он уходит в себя, больного, от других больных. И во время этих приступов мизантропии с ним приключается одна и та же история. Калька Кафки. Подобие «Процесса», в котором маленького человека, уютно живущего в тихом болоте мещанства, вдруг выдергивают чье-то грубой и властной рукой и тащат на судебный процесс, где маленький человек виновен. Только в чем? Просто виновен и все. Потому что он маленький человек. Винтик в огромной механике бездушного государства. И еще потому, что его «болотное» мировоззрение не совпадает с мировоззрение активной части двигателя внутреннего сгорания. Студент не хочет ни сгорать, ни двигаться с большой скоростью. Он хочет жить в своем уютном болоте, и чтобы его никто не дергал.
И вот бьется этот маленький человек за право жить в своем теплом мещанском болоте, бьется как может, насколько хватает сил. Готов умереть за свое крохотное мещанское счастье. А там люди извне, не знающие сочувствия, вытаскивают его снова и снова на процесс. Примерно такой бред во время приступов психического расстройства повторяется с Дмитрием. Он описал это в стихах:
«Приходит ночью. Только лягу, на суд плывет моя кровать. И вот ведут меня с конвоем. Смеются, чтобы убивать».
Студент оказывается в огромном зале, куда его доставляют силой под конвоем (очевидно, образы агрессивного мира, в котором юноша пытается социализироваться), вокруг него множество одинаково осуждающих лиц. Без эмпатии. Брось Диму ко львам – эти люди расплывутся в восторге. «Ату его! Он не наш!».
Дима сидит в центре зала. В лицо ослепительно бьют лучи софитов. Он как в большом шоу (очевидно, еще один образ мира сего – хлеба и зрелищ. Чем больше и сильнее зрелище, тем меньше нужно хлеба наДсущного), наверху кресло прокуратора, судьи что-то пишут. Адвокатов нет. Зачем? Все равно, виновен.
– Вы признаете себя виновным? – звучит металлический голос скрытого от света судьи.
– В чем? – осторожно интересуется Дмитрий.
Холодно. Страшно. Хочется домой в теплый мещанский уют привычного уклада. Ему не хочется тягать смыслы и переворачивать вселенную. Он не Бог и не титан. Он маленький человек покоя. Оставьте его. Но его снова возвращают к публичной порке.
– Повторяю. Вы признаете себя виновным?
– Да. Признаю, – тихо соглашается он, понимая, что по-другому нельзя.
– Вы готовы понести наказание?
– Готов, – тихо соглашается Дима.
– Вас приговаривают к расстрелу.
– Что-о-о-ооооо!?
Дима вскакивает со стула пыток, рвется к судье, но безжалостные руки стражи принуждают его вернуться.
– Не хочу! Не хочу! Не хочу! – кричит Дима, захлебываясь в слезах. – Оставьте меня в покое. Что я вам сделал?
– Вот именно ничего, – отвечает металлический голос. – И это самое страшное.
Приступы обычно заканчиваются через неделю-другую, иногда переходят в кошмары, и эти кошмары, выплеснутые из подсознания в искаженную реальность, действуют на психику как крепкий настой – Дима приходит за помощью к психиатру самостоятельно. Его выводят из расстройства, прописывают антидепрессанты, примерно полгода студент пытается наладить дружеские отношения с внешним миром, но происходит какой-то неочевидный срыв, и все начинается заново – по одному и тому же сценарию – Кальки Кафки.