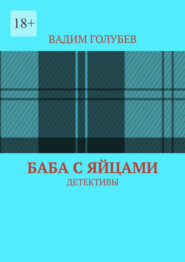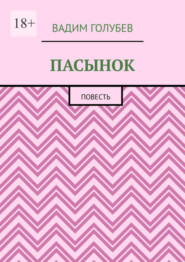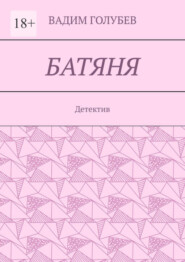По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Изломы судеб. Роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И вы здесь, Николай? – забегали глаза Генриха Григорьевича.
– Приказ Хозяина, – ответил Лебедев.
Мелко затряслись голова и руки бывшего наркома внутренних дел. По-стариковски суетясь, он одел шинель и тяжело дыша, направился в сопровождении Николая Александровича к выходу. Гулько остался проводить обыск на рабочем месте. Ни слова не проронил Ягода по пути на Лубянку, только вздыхал и тряс головой.
– Непорядочек, товарищ капитан госбезопасности! – встретил их наглый мордастый парень, принимавший арестованных на Лубянке. – Враг народа, а с наркомовскими петлицами, с орденом.
– Ты с кем разговариваешь? С дворником? – возмущенно спросил Лебедев парня, сдиравшего петлицы и орден с френча Ягоды.
– Все вы здесь временные! Сегодня – с ромбами и орденами, а завтра – враги народа! В наручниках через этот предбанник пойдете!
В тисках репрессий
С первых дней своего руководства Ежов приступил к реорганизации аппарата НКВД.
– Все вы разложены, избалованы высокими чинами, полученными не по заслугам, – заявил он на одном из совещаний. – У нас больше, чем в армии народа, имеющего генеральские звания. С этим будем кончать! Заодно посмотрим: все ли соответствуют имеющимся у них званиям. Враги проникли в органы. Поэтому упорядочивание званий будет производиться одновременно с поголовной проверкой всех наших сотрудников! Мы возьмем всех шпионов и диверсантов, окопавшихся в нашем аппарате!
Тем не менее, после этого совещания всем работникам органов вдвое были повышены должностные оклады. Одновременно шла проверка работников органов. Это было уничтожение всех неугодных Ежову. Сначала арестовали служивших в аппарате латышей – тех самых бывших латышских стрелков, что перешли на сторону революции. Среди них было немало членов партии с дореволюционным стажем. Латышей, охранявших дачи Сталина, Николаю удалось на время отстоять. Как ни уговаривали его дать согласие на их арест, он отвечал словами:
– А кто будет нести охрану товарища Сталина?
– Ты, что этих мужланов в Кремле держать хочешь, с их рожами белоглазыми? – спросил начальник контрразведки Молчанов.
– В Кремле они не работают. Охраняют дачи в Рублево и Кунцево. Там сплошные лесопарки. А лес латыши как никто другой знают. Кроме того, все они члены партии с дореволюционным стажем. Все прошли Гражданскую войну. Их всех убрать – сколько времени новых людей учить надо? Нет, Георгий Андреевич, не дам я согласия на арест латышей!
– Ладно, Хозяин решит, – мрачно произнес Молчанов. – Только смотри, Коля, как бы тебе самому кровью харкать не пришлось.
Через несколько дней Лебедев, Гулько и Власик сопровождали Иосифа Виссарионовича на прогулке в Кунцево.
– Что-то, Лебедев, я не вижу охраняющих меня латышей, – покрутил головой по сторонам вождь.
– Так, вы, товарищ Сталин, не любите, чтобы наши сотрудники «светились», – ответил Николай.
– Ну и где они? Спят? – недовольно повернулся к нему Хозяин.
Лебедев засвистел по-птичьему. Часть большого дерева отъехала в сторону. В огромном дупле стоял латыш-охранник. На полочках, сделанных в дупле были аккуратно разложены пара маузеров, гранаты. Там же стоял ручной пулемет.
– И так везде! Не то что каждый сантиметр, каждый миллиметр территории под контролем, – доложил Николай Александрович.
– А мне говорили, дескать, латыши не столько служат, сколько спят, – поморщился вождь и повернулся к Гулько. – Вступился за латышей только Лебедев. А ты, Гулько, почему промолчал, когда к тебе контрразведчики за их головами приходили.
– Я отвечаю за охрану всего Политбюро, Лебедеву лучше знать своих работников. – потупился Борис Яковлевич.
– А ты, Власик, почему молчал? Это – твои непосредственные подчиненные!
– Мой непосредственный начальник – Лебедев. Ему лучше знать, товарищ Сталин, – спрятал глаза тот.
– Ох, уж эти контрразведчики! Всюду им шпионы да заговорщики мерещатся! – усмехнулся в усы Хозяин. – Молчанов всегда много брака в работе допускал. Придется с ним разбираться. А латыши пусть работают пока.
Через некоторое время был арестован и расстрелян Молчанов, а вместе с ним ряд контрразведчиков.
Все сильнее раскручивалась пружина репрессий в органах. Вести дело арестованного начальника управления или отдела поручали его первому заместителю, которого назначали на освободившееся место. Разумеется, преемник делал все, чтобы добиться от бывшего начальника признания в преступлениях, караемых смертью. Через некоторое время арестовывали и этого руководителя, и уже его дело поручали вести его вчерашнему заму. Пять раз проходили такие изменения в органах накануне войны. Такая же система была введена в армии, промышленности, науке и культуре. Только там преемник не вел лично дело бывшего начальника, а курировал ход следствия. Одновременно с латышами репрессии обрушились на эстонцев, литовцев, поляков. Хотя наряду с ними бросались в тюрьмы представители других больших и малых народов, этих уничтожали поголовно.
– Если они не шпионы сейчас – станут шпионами в будущем! Зачем нам потенциальные враги? – ответил Хозяин на предложение Ежова установить процент арестов среди прибалтов и поляков. – Никаких процентов! Пока на их родине существуют буржуазные режимы, вся эта шантрапа должна находиться за Уралом!
Тем не менее, идея процентов Сталину понравилась. Начали устанавливаться планы по арестам: годовые, квартальные, месячные. Разрабатывались планы по арестам немецких, английских, японских и прочих шпионов, троцкистов, правых уклонистов, вредителей. Судам спускались сверху планы по вынесению смертных приговоров, двадцатилетних и прочих сроков заключения. Везло тем, кто попадал в суд в конце месяца. К этому времени план по расстрелам, как правило, был уже выполнен, и подсудимые приговаривались к заключению. Тоже самое происходило в Особых совещаниях – судебных органах с быстрой процедурой рассмотрения дел. Там дело рассматривалось без подсудимого, а подчас – и прокурора. Однако вскоре нашли лазейку для перевыполнения плана по расстрелам – начали осуждать на десять лет без права переписки. Эту категорию осужденных уничтожали или сразу же после вынесения приговоров, или же помещали в лагерь, где людей расстреливали или забивали насмерть, когда такое решение принимала администрация.
Закрутился в маховике репрессий Паукер. Его допрашивал сам Гулько. Будучи боксером, он приказывал подвесить жертву к потолку на подобие «груши» и отрабатывал на нем приемы. Теперь уже Карл Викторович, карикатурно показывавший последние минуты Зиновьева, сам умолял позвонить товарищу Сталину.
– Может быть, Хозяина прямо сюда привезти? Под твои ясные очи? – еще сильнее лупил его по почкам, печени, позвоночнику, сердцу Гулько.
Однажды Борис Яковлевич заглянул в кабинет Николая, будучи расстроенным.
– Вот, сволочь, сдох! Кто мог подумать, что у Паукера окажется такое слабое сердце? – проворчал он. – Что теперь делать?
– Хозяину докладывать нельзя, – ответил Лебедев. – Он не любит брака в работе. Доложить надо наркому. Чтобы как-то договорился с генеральным прокурором Вышинским и председателем военной коллегии Верховного суда Ульрихом.
Николай Иванович Ежов попенял Гулько, что подследственные должны давать показания, а не умирать во время допросов, но в конце концов промолвил:
– Х… с ним! Не велика потеря!
На протоколы допросов поставили факсимиле убитого. Затем в машине с надписью «Хлеб» перевезли с Лубянки в здание военной коллегии Верховного суда СССР. Там быстро состряпали протокол судебного заседания и приговор. Затем тело кинули в «воронок» с приговоренными в тот день к расстрелу. Вывезли на полигон «Коммунарка». Швырнули труп в заранее вырытую могилу. Через несколько минут на то, что некогда было Карлом Викторовичем Паукером посыпались расстрелянные. Николай Александрович после этого свой собственный факсимиле сжег.
Грянул третий Московский процесс. Снова Лебедеву пришлось сидеть на судебных заседаниях, затем докладывать о ходе разбирательства Хозяину. Как и на других процессах измученные пытками люди давали нужные судьям показания, оговаривали себя, соратников по борьбе, друзей. Ягода даже «сознался» в отравлении пролетарского писателя Максима Горького и наркома тяжелой индустрии Куйбышева. Некогда стелившийся перед ним генеральный прокурор Вышинский теперь отыгрывался по полной, унижая при каждом удобном случае бывшего всесильного наркома.
– Что же вы чувствуете, представ перед советским судом, заговорщик и фашистский наймит Ягода? – задал вопрос незадолго до вынесения приговора Вышинский.
– Я очень сожалею… – пробормотал Генрих Григорьевич.
– О чем вы сожалеете, преступник Ягода? – не унимался прокурор.
– Я очень сожалею, что всех вас не расстрелял! – взвизгнул подсудимый.
– Конвой! Выведите его из зала заседаний! – приказал председатель суда Ульрих. – Нам его показания больше не понадобятся! Подсудимый Ягода сам разоблачил себя в контрреволюционно-троцкистской деятельности!
Разумеется, в своей заключительной речи Вышинский заявил:
– Вражеских шпионов и заговорщиков расстрелять как бешеных собак!
Утром к Николаю в кабинет заглянул возбужденный и слегка хмельной Гулько.
– Ягоду вчера казнили и некоторых его прихлебателей из органов, – сообщил он.
– Вероятно, расстреляли? – попробовал уточнить Лебедев.
– Нет, казнили! Железными прутьями насмерть забили! Ежов казнью лично руководил. Всю ночь убивали. Мы два ящика гамбургского пива выпили. Ну и потом нарком поднес из своих запасов коньяка. Ну, нарком – молодец! Я от него такой прыти не ожидал! – пахнул перегаром Борис Яковлевич. – У тебя опохмелиться не найдется?
Николай достал бутылку армянского коньяка. Начальник наполнил стакан до краев и осушил его.